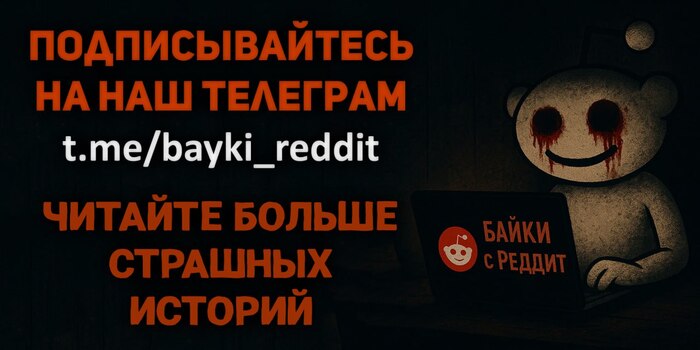ВАРНИНГ — этот рассказ будет немного тяжелее, чем вы привыкли видеть на моем аккаунте. Если вы не готовы, подождите немного — через пару недель выйдет следующая часть в привычном стиле.
Утро выдалось сырое. Снег уже сошел, оставив после себя кашу из навоза, золы и кваклой земли, в которой утопали галоши. Ветер гонял запахи — тухлой соломы, мокрых тряпок и собачьей мочи.
Софа шла медленно, придерживая живот. Он был тугой и натянутый, как шкурка вареной сосиски, грозившей вот-вот лопнуть. Иногда казалось, что кто-то внутри осторожно пробует на вкус ее органы, облизывая и обсасывая изнутри, как леденец.
"Сегодня день", — сказала Мать Злата. Буднично. Как сказала бы о дойке коровы и сборе урожая.
Софа не спрашивала, что за день. Ей и так было понятно. В такие дни требовалось смыть с себя все лишнее.
Тропинка к бане была утоптана. Она зашла в баню, прикрыв за собой покосившуюся дверь. Щель между досками сквозила наружным светом — серым, мучным. Внутри было чуть теплее, но воздух стоял тяжелый, как в курятнике, где давно никто не убирался. Плесень облепила стены пятнами, похожими на карту старой страны, которую уже давно никто не вспоминает.
Сухие веники у стены, таз с грязным ободом, кусок хозяйственного мыла. Все как положено. На подоконнике лежал моток пакли, припорошенный солью. Им полагалось оттирать себя от грязи и дурных помыслов, пока не начнет щипать кожу. От него тянуло чем-то живым — мокрой крысой, уксусом, молочной слизью.
Софа сняла платье и аккуратно сложила его на истертую до заноз табуретку. Грудь заплыла венами, под кожей тянулись багровые, как у старой картошки, корни. Иногда соски пульсировали и казалось, что из них готово брызнуть молоко. Со дня на день она должна была разрешиться своим первым живым ребенком.
В тазу уже была вода — теплая и желтоватая. На дне покоились лепестки. Угадать в полутьме, что именно за трава, было сложно Пахло тухлой мятой и старой желчью. Софа старалась не думать, что в этот раз добавили Матери. Она окунула туда руки, потом зачерпнула пригоршню и плеснула себе между ног. Вода запуталась в жестких кучерявых волосах, оставляя на них маленькие блестящие капли, и тонкими ручейками потекла по внутренней поверхности бедер. Там, где кожа истончилась от трения, вода сильно жгла и оставлял за собой саднящее чувство.
Потом она встала на колени. Пол неприятно скрипел. Губы шептали заученные слова, с которыми любая Жена и Мать была хорошо знакома.
"О, Любящий. Прими плоть, приготовь ложу. Я дочь, что ты породил. Жена, с которой ты возлег. И мать, что тебя породила…"
Она прижала ладони к животу, чувствуя, как внутри кто-то пошевелился. Скоро, совсем скоро, она подарит миру дитя Любящего. После шести неудач она наконец сможет выносить плоть от плоти его.
Завершив омовение, Софа вышла на улицу. Где-то хлопнула дверь. И сразу после раздался мужской старческий шепот. "Жена вышла. Видели? Вышла. Готова, значит".
Старики всегда шептались. Даже когда никто их не слушал.
Церковь, если ее еще можно было так называть, стояла в центре. Маленькая, перекошенная, с облезлым куполом. Звонница давно обвалилась, но колокол повесили снова, приладив его на несколько длинных бревен-опор. В нем была трещина, и звук уже был не таким чистым, как раньше. Софа не могла отделаться от мысли, что примерно такой звон мог бы издавать гнилой зуб, если бы его увеличили и приделали язычок.
На крыльце церкви уже стояла Мать Надя. Серая, похожая на сукно или камень — на что угодно, кроме человека. Лицо ее практически не двигалось, даже когда она говорила. Только медленно моргали безжизненные, как у вареной рыбы, глаза.
— Иди, — сказала она, не глядя. — Сад уже открыт.
Софа только кротко кивнула в ответ.
«Сад» уже давно не был садом, но все по привычке продолжали так его называть. Когда-то здесь и правда росли яблони, но давно уже сгнили. Теперь от них остались только пни, затянутые мхом.
В самом центре — Дом Единения. Небольшой сарай, сложенный из камня и дерева задолго до рождения Софы.
Стены отсырели, доски местами прохудились, но дверь держалась крепко, загораживая Дом Единения от всего остального мира. Под крышей гнездились пауки, а в щелях между бревнами уютно пушилась плесень.
Дочери и Сыновья между собой говорили, что Дом дышит. Что, если приложиться ухом к камню, можно услышать, как внутри шевелится и вздыхает нечто.
Внутри было прохладно, но намного теплее, чем на улице. Воздух пах воском, обожженными травами и соломой.
На стенах — ничего. Только потемневшие пятна и трещины. На полу — старое покрывало. Когда-то оно было белым. Теперь отдавало серым цветом беспамятства и смирения.
Софа прошла внутрь. Ступила на ковер, где до нее стояли многие другие Жены.
Трое — старик, моложавый мужчина и тот, у которого в лице еще сохранилась мальчишеская округлость. Все трое были в длинных застиранных рубахах до пола, подпоясанных шнурками.
Старший держал в руках чашу. В ней была смесь из меда, теплого молока и крови тех, кто носил Его до нее. Это нужно было выпить, чтобы Он помнил, кем был прежде.
— Ты знаешь, зачем пришла? — спросил старик, не повышая голоса.
— Ты помнишь путь? — спросил мужчина.
— Ты готова принять Его? — спросил юноша. Он звучал довольно уверенно. Софа смутно припоминала, что ему осталось от силы год пробыть в статусе Сына.
Они обошли ее по кругу — Сын, Муж, Отец. Они клали ладони на живот, на лоб, на грудь. Шептали. Слова были тягучими и скользили в сознание, оставляя ощущение липкого меда, который она недавно выпила.
Потом — кровь. Младший разрезал ладонь и провел по ее лбу. Средний коснулся ее губ, старший — живота. Пальцы были горячими. Они смотрели на нее не как на женщину. Не как на человека. А как на сосуд, который должен выдержать — не пролиться и не лопнуть, сохранить то ценное, что в нем есть.
Она хорошо знала, что будет дальше, и просто ждала. Не с желанием и восторгом, как другие Жены, а с покорной ясностью, что так нужно. Ее желания здесь были не важны. Она не стремилась к этому, но была готова, как и положено той, что готовится стать Матерью.
Когда она легла, под лопатками мягко продавился ковер. Пахло прелым — не от трав или плесени, а от чужой влаги, которая много лет пропитывала ткань.
Сначала мази. Густые, жирные, оставляющие склизкую пленку на коже. Они пахли салом, золой и чем-то сладким, почти гниющим. Мазь втирали в бедра, в живот, в грудь, в щеки до тех пор, пока Софа полностью не покрылась ей — от пяток до кончиков волос.
Потом пеленание. Пеленки давно уже посерели и загрубели от частой варки в травах. Ее обернули, как куколку, оставив только небольшое пространство вокруг промежности.
Ритуал длился. Они касались ее строго, не ласково. Без жестокости, но и без стыда. Как крестьяне касаются коров перед отелом. Она не стонала. Только однажды дернулась, когда младший повел себя чересчур поспешно и сразу получил тихое замечание от старшего. Торопливость вредила. Все, что касалось плода, требовало меры.
Старший подошел с чашей. В ней что-то колыхалось — вязкое, тягучее, темнее крови. Пахло кореньями, корой и забродившей ягодой.
— Чтобы ты не тревожила, — сказал он. — Чтобы он не проснулся раньше времени.
Он поднес чашу к ее губам. Напиток был густой и теплый, как свежесваренный кисель. Противный. Вяжущий, со странным склизким вкусом. Горло тут же свело, желудок дернулся, но она проглотила. Как учили, как следовало.
— Ты всегда была Дочерью.
Софа чувствовала, как их тела сливаются в одно. Но уже не на ней, а где-то внутри. Там, в глубине ее чрева, кто-то жадно впитывал это единение. Ворочался и потягивался, болезненно смещая ее органы и раздвигая кости.
Совсем скоро она должны была родить, и это были последние трое, с кем она возлегла в эту беременность. Ее ребенку предстояло иметь двадцать семь Отцов, каждый из которых отдал ему частичку себя.
Она не плакала. Не молилась. Только смотрела в потолок, где сырость собралась в большое темное пятно. Они оставили ее одну. Это было важно, чтобы Любящий узнал ее без свидетелей.
Ее тело стало ватным, глаза закрылись сами собой, а разум погряз в вязкой полудреме, где образы не имели формы, а мысли цеплялись друг за друга так никогда и не становясь ясными.
Когда Софа очнулась, уже начинало темнеть. Синевато-серый свет еле пробивался сквозь щели, а свечи давно успели догореть и погаснуть.
Сама пошевелиться она была не в силах, поэтому оставалось только ждать, когда Матери заберут ее.
Вскоре приоткрылась, впуская прохладный воздух ранней весны. В проеме показалась Мать Надя, а за ней еще несколько Матерей.
Они уложили ее в простыню и вынесли наподобие кокона. Бережно, как выносят икону после службы. Никто не говорил ни слова. Из медленную процессию сопровождал только шорох ткани, да чавкающие по грязи шаги.
Ее отнесли в дом Матери Веры — одной из старших. Та давно не выходила на улицу. Плод ее лишь однажды дожил до восьмого месяца. Родился раньше срока серым, крикливым, со впалой грудной клеткой и ртом, в котором было слишком много языка. Его чтили, как чтут любое истинное дитя Любящего. Но ребенок не прожил и недели. С тех пор Мать Вера почти не говорила, только ухаживала за другими женами и Матерями.
Она встретила процессию с влажными тряпками наготове. Раскутала, обмыла и переодела Софу в чистое сухое платье, а затем проводила в маленькую темную комнату.
Софе полагалось тихо лежать, пока Мать Вера срежет у нее прядь волос и добавит в прялку, чтобы сделать для нее защитную нить, которую полагалось носить вокруг живота.
Иногда мать Вера подходила и клала руку на живот. Иногда шептала. Иногда просто протяжно смотрела и смахивала слезу с иссохшего глаза.
Когда солнце совсем скрылось, веревка была готова, а в дом постучались девочки.
Им было не больше шести. Они усадили Софу на пол и расселись вокруг нее и разложили куклы. У каждой — по одной. Лицо смято, дырки вместо глаз, рот и уши зашиты. Девочки говорили, что куклы спят, чтобы не слышать грязных слов и не видеть нечестивых дел.
Сначала играли в роды. Куклу мазали грязью, как будто это вода и кровь, и засовывали ее под подол платья. Кто-то смешно пыхтел, от старания надувая носом сопливые пузыри. Кто-то пытался изображать потуги, но только валился на пол от смеха. Одна девочка вела себя особенно старательно. Она кричала и выла, каталась по полу, хватаясь за живот и заходясь в молитвах. Даже измазала себе бедра глиной изнутри, чтобы было «взаправду», а под конец и вовсе затихла, свернувшись калачиком на полу.
Софе стало её жаль. Малышка недавно потеряла Мать. Храброе дитя прожило с ней весь процесс сложных родов и проводило в объятия Любящего. Для нее эта игра была очень особенной.
Потом были похороны. Это была обязательная часть. Иногда хоронили свою куклу, иногда — чужую. Заранее заготовленную землю насыпали ладонями и приговаривали: «Любящий да примет тебя, дитя». Стать Матерью похороненной куклы было честью, и девочки долго спорили, кому она выпадет на этот раз.
Софа вдруг поняла, что тоже шепчет слова молитвы вместе с ними. Беззвучно, одними губами. Это заставило её нежно и немного устало улыбнуться — все было правильно.
Девочки учились быть Матерями. Пока еще не знали, что значит быть Женой, да им и не нужно было. Все придет, когда должно, когда они будут готовы. А пока они учились любить той любовью, что знает только Мать. И учились отпускать. Не ропща и не сопротивляясь.
Снаружи глухо забили в колокол. Было время вечерней молитвы. Девочки наспех обмотали сотканную Матерью Верой веревку вокруг живота Софы и наперегонки бросились к церкви.
Медленно, немного вразвалку, Софа пошла за ними. Когда она уже выходила из комнаты, на границе видимости она увидела мальчика. Он был маленьким и слишком худым. Оно скрючился где-то в тени угла и дышал часто-часто, как щенок. У него было круглое слегка одутловатое лицо младенца. А вот глаза были по-настоящему взрослыми. Понимающими. Смотрящими в самую суть.
Он ничего не говорил, только пристально смотрел на Софу и слегка улыбался.
Софа вздрогнула, моргнула пару раз и видение исчезло. Она сочла Его явление добрым знаком.
Дом Собраний наполнялся людьми.
Женщины в длинных светлых платьях, мужчины — с гладко выбритыми щеками, дети — улыбчивые, чистые и притихшие.
Все стояли полукругом. В центре — помост, устланный пеленками. На нем, как всегда, лежал один из младенцев — не тот, что кричит и требует, а тот, что просто смотрит. Его глаза были обращены в потолок. Он не моргал, просто не мог делать это сам.
На помост вышел Отец-наставник, Бажен — высокий, с седыми висками, в простой рубахе и широких штанах.
Он поднял руки, и зал стих.
Он говорил негромко, в каждое его слово приходилось вслушиваться.
— Слушайте не ушами, а сердцем. Слушайте, как слушают дети.
Сегодня я хочу поговорить с вами о боли.
Любящий не приносит боль.
Боль — от наших слабостей, от нашего несовершенства.
Боль — это наказание за нашу низость и порочность.
Любящий — мягкий, теплый, нетронутый.
Он не судит. Он не говорит. Он несет свет и очищение.
Бажен обернулся к младенцу и, не прерывая речи, сел на корточки рядом с ним.
— Посмотрите на это дитя. Разве оно не совершенно?
Он положил руку на крохотную грудь. Младенец не вздрогнул. Он даже не перевел взгляд.
— Он не слаб, он — чист. Он не кричит, потому что для него страха и боли не существует. Его разум свободен и открыт для Любящего.
Бажен приложил ухо к груди младенца, задержался на мгновение, слушая что-то доступное только ему. Затем выпрямился.
— Его дыхание легкое. Как у тех, кто ничего не боится.
Так и мы должны быть легки. Пусты. Готовы принять.
Мысли — тяжесть.
Речь — обман.
Желания — гниль на сосуде.
Каждый из нас — сосуд. И через нас Он вернется.
Так не допускайте же в себя скверны и разврата внешнего мира.
Люди замерли. Они смотрели на младенца на помосте так же, как смотрят на живого бога, готовые отдать ему всех себя.
— Через чистое рождается настоящее.
Через простое возвращается великое.
Мысли — это шум.
Слова — это пыль.
Знание — это яд.
Только тот, кто не знает, может быть полон.
Только тот, кто не говорит, несет в себе истину.
Только тот, кто не мыслит, может вместить Любящего.
Он подошел к Софе, стоящей в круге. Протянул руки. Не к ней самой, а к животу. И она замерла в осознании оказанной ей чести.
— В тебе Он. В тебе — Его дыхание. В тебе — Его возвращение.
Бажен повернулся к остальной толпе.
— Любящий не стар. Любящий не взросел. Любящий — всегда дитя.
Он — Отец, что дал начало.
Он — Сын, что был рожден.
Он — Муж, что вошел в плоть.
Он — Дитя, зачатое в утробе своей Жены.
Он — Муж своей Матери.
Он — Семя, упавшее в Себя самого.
Он — Начало и Конец.
Таков Любящий.
Сначала — Дочь, что служит.
Потом — Невеста, что вкушает Семя Любящего от Отца, от Мужа, от Сына.
Затем — Мать, что носит в утробе.
И вновь — Дитя, что приходит в мир через нее.
Так Любящий возвращается.
И тогда дети начали напевать. Тонко, тихо, как поют перед сном колыбельную.
«Возвращайся, милый.
Возвращайся, светлый.
Возвращайся, чистый.
Возвращайся, вечный».
Софа смотрела на пеленки. На младенца, лежащего на помосте без движения и тупо пялившегося в потолок.
И в этот момент она почувствовала, как внутри начинает двигаться нечто. Не толчок. Не боль. А прикосновение мягкое, как ладошка младенца. Ладошка, которая уже знала, что будет с ней вечно.
Дыхание Софы сбилось, а в висках зашумело. К горлу с отвратительным бульканьем подкатилась желчь и она почувствовала вкус всего того, чем ее сегодня поили.
Ее вырвало прямо под ноги. Горечь глухим шлепком ударилась о землю и разлетелась темными брызгами. Софа рухнула следом, обхватив живот.
А потом ее пронзил шепот. Не голос и не звук. Ощущение слов, которые не были сказаны, но были услышаны.
Мгновенно Софу накрыла волна чужих мыслей. Они совсем не были похожи на человеческую речь. Скорее напоминали не до конца обглоданные кости, на которых осталось немного смысла.
«Больно. Снова подтекла. Воняет. Заметят. Потерпи»
«Софа жирная, как моя мать. Свинья»
«Хоть бы ребенок не заорал в ночь. Так устала. Ненавижу. Мерзость»
«Хочу хавать. Сальце бы. Или пирог. Или хоть под языком пососать что»
«Не выживет. Сдохнет. Все они дохнут»
«Молиться надо. Молиться. Или хотя бы делать вид»
«Она красивая. Тварь. Ее сегодня поимели. Повезло же мрази»
«Если бы умерла, никто бы не заметил. Может, так лучше?»
«Когда меня позовут? Я тоже хочу быть нужной. Не пустой»
«Бедро чешется. Опять преет»
Софа скрючилась на грязном полу и до боли сжимала голову. Она не заметила, как остановилась проповедь, не заметила, как ее обступила беспокойная толпа и как ее волоком донесли до ближайшего дома.
Все, на что она была способна — это тихо скулить и молиться о том, чтобы перестать слышать всех их. Матерей, Сыновей, Мужей…
Все они грязные. Их вера лишь тонкая кожица на прогнившем нутре. Их тела — надколотые сосуды.
Она слышала, как Мать Надя думает, что вонь от Софы испортит воздух в доме.
Как Мать Вера тихо мечтает, чтобы этот плод, как и остальные, не дожил до срока, чтобы Он не родился.
Как Бажен видел себя подле Любящего, неся его волю как верный апостол. Не из любви, а из тщеславия.
Софа кричала, чтобы они все убирались, чтобы оставили ее наедине с Ним.
Когда она наконец осталась в комнате одна, мысли притихли, но не исчезли. Они все еще скребли ее сознание уродливыми щетинистыми щетками.
Она с трудом села и содрогнулась от отвращения.
Она не хотела слышать их навязчивый гомон. Не хотела чувствовать, как они все липнут и ждут, когда она разродится, чтобы снова пустить ее по кругу в угоду своей гордыне, жадности, извращенному самолюбию.
Но Он хотел познать их всех. Он хотел услышать и увидеть их. Такими, какими они постеснялись бы показаться даже самим себе.
Он наблюдал через нее. Слушал. Познавал.
Софа почти не двигалась. Не спала — не ела — не молилась. Просто лежала. Смотрела в потолок и позволяла Ему впитывать этот мир и вписывать себя в него.
Бажен воздвиг новый слой ненужной лжи вокруг истинного чуда, зародившегося в ней. Он счел это предзнаменованием Его возвращения и величия и нарек Софу первой Матерью истинного бога.
К ней не заходили. Еду оставляли у порога, сопровождая тихим стуком. Теплый хлеб, перетертые ягоды, немного подогретого отвара, каши и другой мягкой еды. Но все так и оставалось нетронутым. Стояло на крыльце, покрываясь пленкой и подсыхая по краям.
Говорили, что так лучше. Что Любящему нельзя мешать. Но на самом деле страшились. Кто-то — того, что Он на самом деле не пришел. Кто-то — того, что он рядом.
Даже Мать Вера, что ухаживала за ней с первых дней, теперь лишь приоткрывала дверь, оставляла таз с водой и чистую одежду и тут же уходила. Не спрашивала. Не касалась и все время истово молилась, чтобы заглушить прочие мысли.
Иногда у окна появлялись дети. Заглядывали и тут же прятались, с трудом сдерживая смешки и громкий шепот. Они не понимали, но чувствовали — что-то происходит.
Их близость Софа ценила выше прочих. Их мысли и тела были чище.
Естественным образом любопытство победило страх. Оно всегда побеждало.
Первой войти к ней решилась Мать Надя. Ее лицо как всегда было каменным, но Софа чувствовала ее страх и отвращение, смешанное с благоговением.
Надя села на на край кровати, не глядя на Софу. Она не решалась сказать ни слова, хотя голова ее была полна вопросов.
«Пусть коснется», — подумал Он, и софа задрала платье, обнажая круглый, натянутый живот, покрытый длинными багровыми разрывами по бокам.
Мать осторожно, двумя пальцами, коснулась кожи на животе и тут же одернула руку. Тихо ахнула, зажала рот ладонью и медленно вышла на негнущихся ногах.
На следующее утро пришел Муж Лука. Тот, что громче всех говорил о вере и, как выяснила Софа, меньше всех верил.
Он коснулся живота и его лицо исказила гримаса первобытного ужаса. Лука осел на пол и зашептал. Сначала молитву, потом бессвязные слова извинений и раскаяний. Софа не шелохнулась, пока его не вывели.
С этого дня они начали приходить по одному. Смотреть. Молить. Потом — касаться.
И каждый из них менялся и искренне веровал с той секунды, как подушечки пальцев касались ее живота.
Все верили по-разному. Кто-то радостно и звонко восхвалял Его пришествие. Кто-то трепетал в ужасе и молил о прощении. Кто-то верил из-под палки — славил его на словах и проклинал глубоко в душе.
Они никогда не говорили с ней — только сквозь нее. Как будто Он действительно слышал их только так. Не в молитвах, не в обрядах, а через ее распухшую и натянутую до ран плоть.
Софа больше не отвечала. Она и не слушала. То, что раньше казалось телом — стало стенкой. Перепонкой, за которой билось чужое, неведомое, древнее. Он наблюдал. Слушал. Дышал через нее.
Однажды одна из молоденьких Жен приложилась к коже губами. Софа ударила ее по лицу. Сильно, хлестко, до крови.
Поцелуй — слишком много. Слишком близко. Слишком жадно. Слишком для себя.
Так приближаются не ради Любящего, а ради себя. Чтобы почувствовать, запомнить, слиться.
Софа не хотела причинить ей боли, но знала, что так было нужно. Боль была не карой, а всего лишь напоминанием, что желание — это ошибка. Если душа не способна подчиниться, тело должно быть наказано. Чтобы плоть запомнила то, чего не понял разум.
Любящий входил в мир через женщину, что была его Дочерью, стала ему Матерью и возляжет с ним как Жена.
Жена вкушает, что положено.
Мать рождает, что даровано.
Дочь делает, что велено.
За четыре с небольшим дня в деревне не осталось никого, кто не прикоснулся бы к Матери Любящего и не услышал его голос. Люди ходили тише. Ели меньше. Спали — редко и тревожно.
Только Мать Вера не отходила от постели Софы и всё время молилась. Молитва вытесняла все ее мысли. Слова текли по губам, заглушая страх, сомнение и брезгливость.
Но чем ближе была ночь, тем труднее становилось молиться.
Слова путались, а мысли — возвращались. И среди них все чаще звучал голос разума. "Это не Бог. Это не может быть Богом. Это тварь, зачатая в гнили, плод наших грехов".
На излете второй недели марта Вера не смогла больше произнести ни единого слова молитвы.
Она тяжело поднялась с продавленной постели. Прошла в спальню Софы босиком, не зажигая свет. Пол скрипел под ней, как зубы под плотно сомкнутыми губами. Она держала нож — короткий, остро наточенный, с деревянной ручкой, обмотанной колючей ниткой. Еще утром он резал хлеб. Теперь предназначался для чрева.
Софа спала на спине. Ее вздувшийся и тугой живот едва заметно подрагивал, будто под кожей что-то двигалось само по себе.
Вера встала у изножья. Ее дыхание сбилось, а морщинистая рука невольно задрожала от страха.
— Прости. Я не ради себя. Ради тебя. Ради нас всех. Прости.
Они были белесыми и мутными. Но Вера не сразу поняла, что это не бельмо и не свет. Это вообще сложно было назвать глазами. Словно кто-то другой смотрел изнутри. Кто-то, у кого нет ни век, ни потребности в них.
— Не делай этого, — сказала Софа. Голос был детским и настолько нежным, что у Веры болезненно сжалось сердце. Она на секунду подумала, что, если бы ее ребенок выжил, у него был бы именно такой голос. — Ты не понимаешь.
Вера всхлипнула, затаила дыхание и вонзила нож.
Кровь хлынула не сразу. Сперва — прозрачная вязкая жижа. Потом — что-то густое, как размешанный желток. И только потом — кровь. Вера не раз видела кровь у рожениц и никогда она не была настолько темной.
Софа вскрикнула как кричат озлобленные раненые животные, но не шелохнулась.
Вера склонилась ближе, думая, что увидит плод — склизкий, багровый и привычный. А, если и не плод, то хотя бы чудовище. Но внутри не было ни ребенка, ни чудовища.
Из рассеченного живота к тянулось нечто обволакивающее, бесформенное, как вывороченные внутренности. Оно расползалось, вытягивалось длинными, не имеющими суставов отростками, как если бы тень попыталась обрести плоть.
Его касание было легким и на удивление холодным. Вера даже не успела понять, что произошло. Ее мир просто изменился, когда сознание тупой иголкой прошили Его слова: «Дрянная Дочь, никчемная Мать, порочная Жена. Не справилась ни с чем, но станешь им примером».
Наутро ее нашли все там же — подле кровати Софы, живот которой был абсолютно целым.
Она не была мертва, но и живой они могли назвать ее с трудом.
Кожа — тонкая, как у стариков, но розовая, как у новорожденного. На щеках мерно лопались белые пупырышки, как у закипающего молока. Волос почти не осталось, только тонкий пушок, местами поредевший, а местами — сбившийся в сальные завитки.
Она пыталась ползать, но не видела, куда. Тонкая шея не в силах была удержать голову, и та беспомощно свисала. Лицо с маленьким беззубым ртом и белесыми мертвыми глазами было испещрено глубокими морщинами и небольшими островками гнили.
На обвисшем как у только что родившей женщины животе болтался пульсирующий канат пуповины, тянущийся в ее же промежность. А из крохотных грудей безостановочно сочилось молоко, от которого в комнате стоял кислый запах.
Ее поселили в хлеву, рядом с церковью. Ее не били и не карали. Наоборот — кормили с рук и поили из чашки. Она пускала слюну, тряслась и хныкала по ночам. Иногда особо сердобольные Матери даже приходили ее утешить.
Считалось, что Любящий пощадил ее. Что она теперь — священный символ Его милости.
Когда мимо проходили дети, их учили говорить:
— Поклонись Матери Вере. Она хотела отнять жизнь, но Он не сделал с ней того же.
Потребовалось еще несколько дней, чтобы деревня замкнулась сама в себе. Жители больше не выезжали за бытовыми вещами и не возили продукты на рынки в ближайшие города.
С каждым днем лица тускнели, а тела сутулились. Люди уже не смотрели друг другу в глаза, боясь увидеть там Его. Лишь склоняли головы в поисках чего-то под ногами или внутри себя самих.
Утром деревня просыпалась не от петухов, а от звуков самобичевания — хлопков ремней, свиста веревок, звона железных прутьев. Те, кто провинился во снах, били себя по спине, по ногам, по животу и промежности, в зависимости от сути своего греха.
Сны стали страшнее яви. Во сне можно было увидеть, как любишь кого-то кроме Него. Или ешь без молитвы. Или улыбаешься. Ему это не нравилось и Он требовал покаяния.
Софу почти не навещали. Подходили, склонялись, шептали что-то на живот, целовали ноги и отходили, не дожидаясь ответа. Ее лицо перестало для них что-то значить. Важным был только живот. Только то, что в нем.
Молились постоянно. Сначала утром и вечером. Потом днем. Потом посреди ночи. Люди стали выходить из домов и становиться на колени, уткнувшись лбами в землю. Часто прямо голышом опускались в грязь, в глину, в навоз. Чистота их тел не имела значения. Только чистота души.
Мать Надя однажды прошептала, что Любящий слышит лучше, когда ты не думаешь. Поэтому стали соревноваться — кто сможет молиться, не думая. Кто сможет очиститься от слов, от воли, от памяти. Одна женщина вставляла себе спицы в уши, до тех пор, пока из них не пошла кровь, чтобы не слышать постороннего. Старик выколол себе глаза— «чтобы подать молодым пример послушания».
Дети стали похожи на стариков. Говорили шепотом, не играли, молились. Они почти не слышали Любящего, но действовали по примеру старших.
Мужчины сношались с женщинами без слов, без возбуждения, без желания. В домах, в храме, на улице. Иногда даже в хлеву подле Веры. Он сам решал, кому и когда необходимо соединить плоть.
Все, что не имело отношения к служению и очищению души, исчезло. Не пахали, не доили, не чинили крышу. Даже не мылись. «Мы должны плодить плоть и молитвы. Тогда Он будет нами доволен», — говорил Отец Бажен.
Некоторые начали видеть сны, в которых Любящий говорил. Но эти сны не приносили ни утешения, ни ответов. Молочные лица без рта, кровоточащие пеленки, младенцы с глазами на подбородке. И голос, похожий на хлюпанье воды в сточной трубе.
Просыпались в слезах, с застывшей мочой на простынях и рвотой на подушке. Те, кто раньше молился прилежнее всех, теперь боялись закрыть глаза. Те, кто смеялся над Софой, теперь крались ночью к ее дому и оставляли у дверей дары.
Сперва — звон в ушах, как от сильного давления. Затем — гул.
Они принесли с собой очищение — в пламени, в грохоте, в крови. Огонь шипел, взрывался осколками окон и трещал деревянными балками. Громко стрекотало оружие, заглушая глухие удары от падения мертвых тел.
Никто не рискнул сопротивляться. Жители только молились, что есть мочи.
Люди падали ниц. Прижимали лбы к земле. Просили прощения — не у пришедших, а у Него. Чтобы Он вернулся. Чтобы снова шептал. Чтобы простил.
Но было пусто.
Тихо.
Так, как было до Него.
Софа услышала чужаков раньше других. Не в ушах — в животе. Там, внутри, что-то завозилось и встрепенулось. Он знал. Он чувствовал приближение. Ее руки машинально легли на выпирающий живот.
Она не стала ждать. Не спросила разрешения. Не позвала на помощь. Она просто поднялась, сжав зубы от боли, и постаралась унести Его как можно дальше.
Она потеряла шестерых. Шесть раз — пустота в животе. Шесть раз — кровь в воде, крики в подушку и новая беременность, которая оканчивалась ничем.
Но этот ребенок был жив и не собирался умирать. Пусть Он жрал ее изнутри, пусть обсасывал ее разум, пусть был чужим и страшным. Пусть. Главное, что был живым.
Софа почти добралась до заднего двора старой пасеки, где еще были подземные погреба. Там всегда было сыро, темно и холодно, но там можно было дождаться, когда все кончится.
Она не дошла совсем немного. Ее грубо повалили на землю и прижали так, что оставалось только хрипеть и сучить конечностями. От боли и изнеможения в ней уже не осталось слов. Только одичалый, звериный рык матери, у которой могут отнять ее дитя. В нем смешались и мольба, и мука и обещание смерти.
Они переговаривались между собой, но смысл упорно ускользал от нее. Сквозь толстое стекло форменной маски ей удалось мельком взглянуть в глаза одному из них. И даже этого мимолетного взгляда хватило, чтобы почуять его страх.
Этого страха хватило, чтобы внутри стало спокойно. Чтобы она смиренно позволила себя увезти. Чтобы Он затих, в ожидании шанса просочиться в их разум.
Когда ее запихивали в обшарпанную газель, она умиротворенно улыбалась. Как улыбаются те блаженные, которые не боятся смерти.