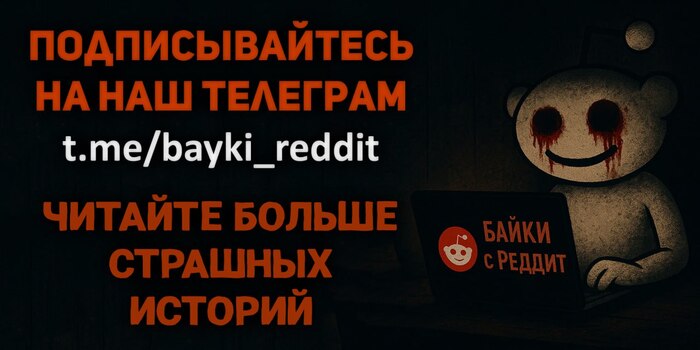Его смерть не была ничьей виной. Элай обожал плавать. На первый взгляд он казался худощавым, но стоило ему оказаться в воде — и он начинал обходить людей вдвое старше, наматывал круги вокруг старшеклассников, оставляя их в шоке, словно барракуда. Остальные дети, плескавшиеся в озере, были там словно туристы: люди, которые знают это место лишь поверхностно. Но для Элая всё было иначе. Казалось, он родился и вырос в одной среде с теми самыми обитателями озера; вода была его родной стихией.
И именно поэтому родители не боялись отпускать его на озеро одного.
В тот день было облачно. Возможно, пасмурное небо скрыло острый подводный камень, о который он ударился, ныряя. А может, он просто слишком привык к озеру и потерял бдительность.
Как бы то ни было, в конечном итоге механика его смерти не так важна, хотя я и восемь лет спустя продолжаю зацикливаться на ней. Наверное, потому что в ней кроется тайна: то, что известно лишь Элаю и его «второму дому». Я люблю воображать, что боли он не почувствовал. Если боли не было, значит, переход в иную жизнь был мягким, как мне тогда казалось. В один миг он ощущал, как холодная вода обнимает его тело, а уже в следующий, прежде чем он успел осознать перелом в черепе, его не стало. Он ушёл туда, что за гранью нашей вселенной — в рай, небытие или некий иной мир между этими полюсами.
Так я верил в детстве. Эта мысль помогала мне спать по ночам — такая себе утешительная ложь, смягчающая боль утраты. Теперь же, зная правду, я тяготею под её тяжестью.
На самом деле последние восемь лет он был гораздо ближе, чем я мог представить.
Мой прадед, Антонио, прожил долгую и насыщенную жизнь. Родился под Мехико уже после революции — в тот самый год, когда Диас лишился власти. Иммигрировал в Южный Техас в сороковых. Участвовал во Второй мировой войне. Хотя «воевал» — громко сказано.
Официальная должность Антонио? «Pigeoneer» — специалист по почтовым голубям.
Для тех, кто не в курсе: голубиная почта долгое время была критически важна для военной связи, вплоть до середины двадцатого века. У союзников было по меньшей мере четверть миллиона голубей, выведенных именно с этой целью. Радиосвязь вражеские войска могли глушить, а голуби умели доставлять сообщения быстро и точно, пролетая над вражескими рубежами.
И, как у любого военного подразделения, у них был свой тренер, человек, который всё это курировал. Вот какова была роль Антонио.
Сейчас это кажется абсурдным, но всё чистая правда. Причём это было не второстепенным его занятием, а основной боевой задачей. Когда к нему приходила партия голубей, он оценивал их — отбирал самых сильных и отправлял их в «голубятню», по сути чуть более «продвинутый» вариант голубятни, приспособленной для отправки и приёма сообщений.
Для Антонио это оказалось идеальным занятием: он обожал орнитологию. С детства учился у своего отца натаскивать морских птиц для передачи вестей и по натуре ненавидел насилие. Если уж его и призвали в армию, то работа с голубями была лучшим из зол.
Тем не менее фронт есть фронт, и там небезопасно даже на вторых ролях.
Однажды весной немецкие самолёты обрушили свою адскую бомбёжку на роту Антонио. Он чудом избежал прямого попадания, но раскалённый осколок бомбы врезался прямо в центр его груди. К счастью, осколок попался тупой. Он лишь сломал грудину, не пробив грудную клетку, но сила удара передалась сердцу: резкий толчок полностью остановил его.
Commotio Cordis — так называют остановку сердца от тупой травмы. Тогда никто не знал, что нужна дефибрилляция. Да и мобильных дефибрилляторов ещё не существовало.
По всем документам я не должен был родиться. Моя бабушка и дядя — тоже. Да и моя мама не появилась бы на свет. Антонио должен был умереть в тот весенний день.
Сослуживцы рассказывали, что нашли его лежащим на земле без пульса, без дыхания, лицо посеревшее и безжизненное. Считали, что он абсолютно мёртв.
Однако минут через двадцать, абсолютно беспричинно, он просто встал. Без каких-либо вздохов, без чьих-то отчаянных криков и попыток оживить его, без случайного электрического удара — ничего. Антонио просто решил не умирать. До полусмерти напугал свидетелей: двое из его товарищей видели всё это своими глазами. Он открыл глаза, поднялся и принялся бегать по лагерю, спрашивая, кому нужна помощь, словно и не был трупом минуту назад. Чуть не довёл их до сердечного приступа.
Причём он сам даже не осознал, что умер.
Но вернулся он уже «запятнанным». Сам он сначала этого не замечал, но оно его не отпускало.
Полагаю, некая часть его всё же осталась «по ту сторону», а та, что вернулась в наш мир, успела прикоснуться к тёмной дымке небытия. Он увидел вещи, которые человеческий язык неспособен описать. Его одна на миллиард случайность поставила его в уникальное положение: он жив, но частичка его души застряла там, где обитают мёртвые. Получалось, он стоял одной ногой в могиле.
С тех пор в моей семье словно поселилась смерть. Нет, это не «Пункт назначения» и не череда невероятных случайностей. Это привычные напасти вроде рака, ДТП, сердечных приступов — обычные, по сути, несчастья, но случающиеся с пугающей частотой, и всё началось после возвращения Антонио. Его изломанная душа притягивала смерть, точно коршунов к падали. Но почему-то она не забирала его самого; натомившись, она забирала того, кто был рядом.
Так что когда мне исполнилось шесть, а папа умер от инсульта, нас осталось только трое.
Через час после того, как тело Элая извлекли со дна озера, в нашу дверь постучали так, словно хотели её выбить. Грохот, напоминающий пулемётную очередь. На тот момент Элай пропал чуть более суток, и это всё, что мы знали.
Я стоял в коридоре, всего в паре шагов от двери, и не мог пошевелиться. Подспудно осознавал: лучше не открывать. Где-то в глубине себя понимал: я ещё не готов узнать ужасную правду. Мне хватало сил думать, что Элай ранен или в беде. Но чтобы он был мёртв? Это казалось невозможным, в духе чёрной магии. Ведь умирать должны взрослые, а дети живут. Нарушать этот порядок — всё равно что выдумать страшилку у костра.
Но ответить на стук я не мог. Всё, что я мог, — это смотреть на тёмную деревянную дверь, прикусывая губу, пока мимо меня спешили мама с Антонио.
Прадед отодвинул засов и распахнул дверь. И тут в дом обрушилась песнь смерти, за ней вошли родители Элая. Смесь рыданий, криков и горя хлынула в гостиную. Такие звуки способны подорвать веру в Бога.
Мама увела меня наверх, а Антонио остался говорить с ними на кухне. Там раздавались их стоны, мольбы и слова, которых я не мог разобрать. Они умоляли его о чём-то, неведомом мне.
Важно сказать, что у нас в городе давно ходили слухи о странной связи Антонио с загробным миром. Никто об этом громко не говорил, но все знали: если быть достаточно настойчивым, мой прадед согласится связаться с мёртвыми. Сможет послать весточку туда и получить ответ, как когда-то с почтовыми голубями. Делал он это неохотно, но, думаю, считал своим долгом — раз уж ему посчастливилось вернуться после смерти, значит, на то была причина.
Даже в двенадцать я догадывался, на что он способен. Не так, как остальные: те видели в нём последнюю надежду, способ поговорить с усопшими. Но я знал, что это небезопасно для него. Он жил с нами с самого моего рождения, а мама всячески пыталась скрыть от меня его «приступы». Но я не раз замечал их своими глазами.
Где-то через час я уснул в объятиях мамы, выплакавшись и устав от психического надлома. Я ещё слышал приглушённые голоса родителей Элая и Антонио, разговаривавших внизу. Стены у нас были тонкие, но слов я разобрать не мог.
Когда я проснулся утром, меня встретили два изменения.
Во-первых, все скворечники Антонио переместились. Раньше у нас на заднем дворе, на большом голубоватом еловом дереве, висел только его любимый скворечник; остальные двадцать хранились в гараже, где когда-то стояла наша машина (проданная после смерти отца). А теперь все скворечники мигрировали во двор. Глубокой ночью прадед успел возвести целый воздушный городок: на разных высотах свисали разнокалиберные деревянные домики, образуя почти замкнутый круг в нескольких шагах от кухонного окна. И при этом я не заметил, чтобы там стало больше птиц.
Если честно, не помню, чтобы потом там вообще водились птицы. Словно они чётко понимали, что надо держаться подальше. Но через плотную еловую листву и весь этот деревянный город снаружи невозможно было разглядеть, что творилось в самом центре круга.
А во-вторых — с того дня мне запретили туда подходить. Мама строго-настрого велела держаться подальше от круга скворечников. Более того, перестать выходить во двор вообще. Если я только попытаюсь туда ступить — будут серьёзные последствия. Я пытался возражать, спорил, почему это вдруг мне нельзя на задний двор, но мама не дала внятного ответа.
Обиженный и подавленный, я не нашёл ничего лучше, как заявить ей, что сделаю всё по-своему и она не сможет мне помешать.
Мама медленно встала, глядя в пол и дрожа как в лихорадке.
Потом на меня обрушилось её бушующее горе: страх, ярость и отчаяние смешались в ней и выплеснулись наружу. Она рыдала, тряслась и чуть ли не рычала на меня, от чего мне самому стало жутко. Жутче, чем от самой мысли, что в любой момент может умереть кто угодно — этот урок я получил с потерей Элая.
Я больше не спорил. Слишком напугала меня эта её ярость. Так что круг скворечников остался для меня закрытой тайной. Антонио что-то делал там, и я не имел права вмешиваться.
По крайней мере, до вчерашнего дня.
Приступы у Антонио участились. Раньше бывали раз в год. Теперь — каждую неделю. Потом каждые два-три дня. В доме раздавался его безумный крик; он бегал, не понимая, кто он и где, и в панике кричал одно и то же, будто в мантре:
«Я хочу выбраться отсюда».
Причём это не было старческим слабоумием. Да, ему пошёл уже восемьдесят седьмой, но в промежутках между приступами он оставался вполне вменяемым. Всё ещё мог водить машину, помогать мне решать уравнения по математике или закупаться в магазине. Он выглядел бодрым, пока не наступал очередной припадок, длящийся час или два. Но раз за разом он повторял, что хочет «выбраться», шёпотом, криком, шёпотом, снова криком.
При этом так называемые «сеансы» Антонио только набирали обороты. Каждые пару дней в наш дом кто-то приходил. Стук уже не был таким паническим, как в тот раз, но я каждый раз замечал в глазах пришедших едва скрываемую печаль. И ещё что-то странное — что-то похожее на безрадостную надежду: неестественно широкие улыбки, пустые взгляды. Меня это пугало, поэтому в подвал к ним я и не совался. Интуитивно понимал: есть вещи, которые лучше не знать.
Прошло несколько лет. «Сеансы» стали ежедневными. Порой приходили по нескольку раз в день. И все эти люди были объединены одним: недавно потеряли кого-то, кто умер уже после того, как во дворе вырос круг скворечников.
Вместе с этим наша жизнь налаживалась: у мамы вдруг появились деньги на машину — роскошь, которую когда-то пришлось продать, чтобы оплатить похороны отца. Заговорили о моём поступлении в колледж. Под Рождество меня стали заваливать подарками, а на мой день рождения мы ходили в рестораны, выбирая всё, что душа пожелает.
Но приступы Антонио продолжали становиться всё более частыми и непредсказуемыми.
В итоге мама стала запирать его по ночам в комнате на замок. Сказала, что так будет безопаснее и для нас, и для него самого. И хоть я и ощущал некоторую вину, меня тоже успокаивало, что среди ночи он больше не бродит по дому в безумстве. Но тонкие стены не защищали от жутких звуков его ночных припадков.
Как-то ночью, не в силах уснуть, я решил прокрасться вниз и подышать воздухом на крыльце. В доме было душно, а открытое окно уже не помогало. Меня успокаивал только освежающий ветер, когда я мог выйти за порог. Но теперь, когда деду запретили ночами покидать свою комнату, мне тоже было нельзя шастать по этажам. Пришлось красться.
По дороге я заметил, что дверь в комнату Антонио приоткрыта. И Антонио там не было.
Самая настоящая паника сковала меня. Я увидел, что из окна на задний двор вырывается тусклое жёлто-оранжевое сияние. Тело у меня похолодело, в животе словно комок образовался. Я не стал проверять, зачем он там; я мигом помчался наверх, уже не заботясь, что разбуду маму.
Но я всё-таки успел заметить: на каждом из скворечников горела свеча. А посреди круга из ветвей клубился лёгкий дым — как благовония.
Только он двигался странно, словно воронка затягивала его в центр.
Днём до этого в ДТП погиб наш библиотекарь, любящий отец троих детей.
Когда мне было девять, за три года до смерти Элая, мы сидели с прадедом на заднем крыльце. Я спросил:
— Абуэлито, почему их называют «скворечниками», если птицы там не живут?
Антонио улыбнулся, отложив потрёпанный экземпляр «Цветов для Элджернона» на колени, и немного помолчал. Его взгляд скользил по небу за маленьким рыжеватым малиновкой, словно он улавливал полёт птицы. Эта робин медленно подлетала к одному из его любимых скворечников, похожему на крохотную беседку.
Он любил наблюдать за птицами. Хотя Антонио был добрым, рядом с ним всегда ощущалось лёгкое напряжение, тревога. Птицы успокаивали его.
Наконец робин опустилась на перильце домика и принялась клевать зерно, щедро насыпавшееся внутри. Антонио смастерил ту «беседку» сам — это был для него особый проект.
Я терпеливо ждал его ответа. Мой прадед трудно говорил: ему требовалась пауза, чтобы сформулировать реплику. А уж ритм речи у него всегда сбивался, будто он не слышал самого себя.
Птица, спугнутая гудком машины, сорвалась с места и умчалась. Улыбка Антонио померкла. Наконец он заговорил, не глядя на меня:
— Сейчас это для птиц безопасное место. Укрытие от непогоды и бесплатная еда. Своего рода гостиница. Но так было не всегда. Раньше, когда людям самим не хватало пищи, скворечники делали так, чтобы заманивать птиц и ловить их.
Я сглотнул. Не ожидал столь тёмного ответа, и у меня в горле встал ком.
— Ты понимаешь, что такое «ловушка»?
Три месяца назад я лежал на диване в гостиной, пытаясь читать по учёбе. За окном сгущались сумерки, дом погружался в полутьму — тот жёлто-оранжевый полумрак, который бывает, если не включать свет до полной темноты. С детства у нас считали транжирством включать лампы днём, а я так привык к этому запрету, что даже сейчас, имея деньги, всё равно тянул до последнего.
Я вернулся из колледжа, а мама всё ещё была у врача-онколога. Значит, я остался в доме один на один с Антонио. Его комната примыкала к гостиной. Дверь была чуть приоткрыта, три замка на ручке свисали впустую — она была не заперта.
С дивана я мог заглянуть в комнату: сначала небольшой узкий коридорчик, а в глубине, на краю кровати, сидел он, смотря в пустую стену напротив окна. И не шевелился. Даже когда я зашёл в гостиную, он не обернулся. Это больше не удивляло меня.
Я вздохнул, уставился в книгу, пытаясь делать заметки, но не мог сосредоточиться. В горле пересохло, живот сводило. В голове вертелась только одна мысль: что случилось с Антонио и почему он практически не двигается, да и почти не говорит теперь. Ведь иногда, по слухам, он продолжал свои «ночные ритуалы» в кругу скворечников. И эти его приёмы, поглощавшие людей и деньги, закончились… но ночной свет свечей я видел буквально неделю назад, выходя к машине за сигаретами.
Меня пробрала дрожь. Попытался унять её, уставившись обратно в книгу. Прочитал пару страниц и понял, что ничего не понимаю. Я поднялся, подумал перекусить. Достал из рюкзака печенье, купленное на колледжной благотворительной ярмарке, и надкусил, машинально продолжая читать.
Но стоило мне откусить, как горло у меня сжалось, дыхание стало тяжёлым, будто сухим. По груди прошла волна нестерпимого зуда и боли, а лёгкие будто наполнились щебнем и битым стеклом. Я ошалело глянул на упаковку — без этикетки. Видимо, там были орехи, и не кто-нибудь, а пекан, на который у меня тяжёлая аллергия.
Взгляд помутнел, я начал хрипеть. На ощупь высыпал из рюкзака всё барахло в поисках шприц-ручки с адреналином, но не успел — потерял сознание.
Думаю, что полностью умереть я не успел, не так, как прадед. Но точно сказать не могу.
Очнулся я от потока кислорода, врывающегося в лёгкие. Антонио стоял рядом, безмолвный, хотя в глазах у него явственно читались ужас и тревога. В руках он держал использованную шприц-ручку. Он помог мне сесть на диван, сунул в руку мой телефон. Я набрал 911, решив, что всё же надо вызвать врачей: пусть осмотрят после такого приступа.
Мне было тяжело отвечать оператору не из-за аллергии: я уже мог дышать и говорить. Просто меня отвлёк жуткий звук. Тихий и отдалённый хор человеческих голосов, напряжённый и отчаянный. Их было много — десятки. Все кричали одновременно, в один голос, перемешиваясь друг с другом. А исходило это явно изнутри Антонио.
Вчера вечером, в 17:42, мама умерла у меня на руках. Антонио не захотел ехать со мной в хоспис. Хотя у него не было физических препятствий, он словно прирос к дому и не мог уйти, даже зная, что её не стало.
Я не хочу вдаваться во все детали маминой болезни — это безумно больно, да и не слишком важно для самой истории.
Главное — это то, что она рассказала мне перед смертью, и то, что случилось с её душой сразу после того, как она умерла.
Я гнал машину домой, не разбирая дороги. Память была переполнена тем, что услышал от мамы. В какой-то момент я сказал себе, что всё это бред морфина и предсмертных галлюцинаций, что в такие минуты люди неспособны рассуждать ясно. А я, ошалев от горя, вдруг поверил ей. Может, деньги на жизнь и колледж пришли к нам обычным путём?
Но, подъезжая к нашему кварталу, я увидел, как задний двор пульсирует десятками маленьких огоньков. И сразу понял, что мамина история может быть куда ближе к правде.
Я не стал аккуратно парковаться — машина подскочила на бордюре. Стук, резкий рывок, и всё. Я даже не обратил внимания, выскочил из салона, устремившись во двор, туда, где всё освещалось светом свечей.
Последние три месяца я слышал голоса, только когда подходил к Антонио совсем вплотную. Но теперь, стоило мне выйти из машины, я сразу услышал тот адский ор. Десятки возбужденных голосов кричали вокруг, заглушая друг друга. Я пошёл на звук к кругу скворечников.
Лишь там я заметил небольшой промежуток в листве, где деревья не так густо переплетены. Пригнулся и полез через колючие, жёсткие иголки ели, царапающие кожу. Будто проламывался в иной мир.
Только влажный, сосущий звук жевания. Мокрый, липкий хруст, будто кто-то жует слишком много ириски сразу.
Я увидел спину Антонио, стоявшего лицом к чему-то подвешенному на цепях. Он ел. Ему было плевать, что и как, а звук был омерзительный — он даже не успевал сглатывать.
Я осторожно сделал ещё шаг. И в этот момент он перестал есть. Тихо, без резких движений, он выпрямился. Послышалось, как мой прадед перестал жевать и затаил дыхание.
А я наконец разглядел, что висело на цепи.
Это был огромный, в три раза больше обычного, ослепительно белый «скворечник» из гладкого материала, похожего на белоснежный мрамор. На крыше торчали два человеческих тазовых кости, словно рога, сросшиеся с поверхностью без гвоздей или клея — переход между костями и стенками домика был идеальным, органичным, будто они проросли из самого «дерева». Вверху торчала труба-дымоход, через которую внутрь затягивался тонкий ручеёк дыма. Спереди, размером с монету, было круглое отверстие, откуда тянулась густая желтовато-янтарная желеобразная масса. Она струилась клейкими, слипшимися «колбасками», капала на землю.
В тот самый миг я услышал жалобный голос. Он не кричал, а умолял. И я сразу узнал его — это была мама.
Я сделал шаг вперёд, содрогаясь от ужаса и боли. Антонио заговорил первым. Его речь здесь звучала чётко, не то что в обычные дни. Но голос его будто имел несколько слоёв — шёпот множества других голосов повторял его слова, сливаясь в зловещий хор:
— Послушай… Просто выслушай. Мне нужно продолжать есть. Иначе я умру, а если я умру, все те, кто внутри меня, тоже погибнут. Ты же не хочешь этого, да? Если я остановлюсь, это будет всё равно что убить их. Нельзя этого допустить. Твоя мать ещё не готова уйти, поэтому я… должен делать это. Знаю, она всё рассказала. И я знаю, что теперь ты тоже слышишь их. Это хорошо. Я научу тебя, как с этим жить. Мы все сможем быть вместе. Пока я ем — я не умираю, а значит, и они не умирают. Я видел ту сторону, видел чёрный эфир. Поверь, это куда лучше, чем там.
У меня перехватило дыхание, я сделал ещё шаг.
— Не смотри на меня так. Это не я всё затеял. Да, я понял, как это делать, но не я придумал начать. Твоя мать первая попросила «вернуть» Элая — чтобы он не исчез навсегда, а остался тут ради себя и родителей. «Исправь несправедливость, Антонио», — говорили они. «Хотим, чтобы он продолжал жить». Но слухи расходятся. Люди узнали, и все стали приходить ко мне, хотели «сохранить» близких. Я стал лишь сосудом.
По мере того как он говорил, голоса под его словами зашлись в тревожный унисон.
— И ты этим пользовался. Деньги, подарки на Рождество, твоя учёба — всё это плата за то, чтобы нарушать законы смерти. Твоя мама называла это «данью». Не плата, не вознаграждение. Но все понимали, чем это было. Ты ведь неплохо жил на эти деньги, да?
Он вздохнул — или его голоса вздохнули.
— Я уже сбился со счёта, сколько их во мне. Стоит мне попробовать вытащить наружу чью-то душу, а вместо неё лезет месиво из нескольких. Там слишком тесно, слишком хаотично. У них нет возможности «выйти» и побыть здесь, как раньше. Но я спасаю их от гораздо более страшной участи. При помощи скворечников я зову их сюда; они оседают во мне, а я не позволяю им раствориться во тьме. Ты же не хочешь, чтобы я остановился? Не хочешь убить их всех? Или обречь на этот эфир?
Он говорил, а дым продолжал проникать в этот жуткий белый «скворечник», выдавливая наружу густую субстанцию, которая текла мне под ноги.
— Элая я тоже чувствую. Он ещё живёт во мне. Прости, что ты не встречался с ним через меня. Твоя мать запретила. Сказала, это слишком «противоестественно». Хотя сама она довольно активно пользовалась плодами моей работы. Я бы вытащил его сейчас, да не могу. Он слишком глубоко затерян, смешался с остальными. Но в каком-то смысле он продолжает жить, даже если не может проявиться.
Голоса, что повторяли речь Антонио, всполошились, а он сам казался всё более взволнованным:
— Ты же не захочешь убить Элая? Я знаю, он не хочет умирать. Я знаю его лучше, чем ты когда-либо знал…
Я прыгнул на Антонио, сбив его с ног вместе с проклятым «скворечником». Завопил, изрыгая чистую ярость, сгусток боли и страха. Вцепился в его горло мёртвой хваткой. Антонио пытался оттолкнуть меня, но удары были слабы. Каким бы бессмертным он ни казался, тело его оставалось телом дряхлого старика.
Его лицо налилось кровью, посинело, а потом пошло рябью — как будто сотни лиц наложились одно на другое, превратившись в нечто расплывчатое. Меня чуть не стошнило от этого зрелища, но я продолжал сжимать руки на его горле.
Удары Антонио редели… и, наконец, прекратились. Мой крик превратился в усталый стон. Я моргнул, и вдруг увидел, что свечи и ослепительный купол исчезли. Остался только я, сидящий верхом на бездыханном теле прадеда посреди нашего двора. Небо было беспросветно чёрным.
А все прочие скворечники на елях погрузились в темноту: их свечи погасли.
На миг мне показалось, что я услышал мамин шёпот. Или так показалось.
Потом наступила звенящая тишина.
Впервые за очень долгое время пространство вокруг меня было пусто.
Я остался по-настоящему один.
Теперь, думаю, я наконец смогу уехать.
Надо начинать новую жизнь, подальше от этих ужасов.
Но прежде чем всё оставить, я должен исповедоваться. Ведь мне не перед кем больше каяться: моя семья исчезла вместе со смертью Антонио.
Пусть этой исповедью станет этот текст.
Я не питаю иллюзий, что записи избавят меня от воспоминаний, будто змея, сбросив кожу. Однако ритуалы важны. Когда человек умирает, мы устраиваем похороны, а потом предаём тело земле. Понятно, что горе от этого сразу не проходит, но мы продолжаем этот обычай. Тут то же самое.
Мамины останки скоро выдадут мне после кремации. Я развею их над могилой Антонио — той, что выкопал прошлой ночью в центре круга, среди скворечников, по-прежнему висящих во дворе.
Это и прощание, и исповедь одновременно.
Мои близкие не были злодеями. Антонио хотел помогать людям, а мама хотела дать мне будущее. Их истинным грехом было желание перехитрить нечто непостижимое, взять под контроль то, что нельзя контролировать.
Антонио, как никто другой, должен был понимать: смерть — это свято. Несправедливо, но универсально, и в этом есть своя суровая, ровная правда, которую стоит уважать.
Надеюсь, они нашли покой.
Возможно, когда-нибудь смогу, но не сегодня.
Однако я не могу отделаться от мысли, что «проклятие» прадеда перешло ко мне.
Чем больше Антонио «ел», тем сильнее он мучился от чужих голосов — они становились слишком громкими. Я же начинал слышать голоса, только когда он был рядом, а после приступа с печеньем — даже на расстоянии.
Но есть ещё кое-что: проблемы с речью у него появились задолго до смерти Элая. Выходит, он слышал их всю жизнь с того самого момента, как ожил на войне, пусть и не говорил об этом напрямую.
Я говорю об этом потому, что время от времени у меня тоже появляется ощущение чужого присутствия. Словно кто-то шепчет или стонет на грани слуха. Может, это всего лишь игра воображения, рожденная шоком.
Возможно, связь с «тем миром» не исчезла вместе со смертью Антонио. Может, теперь она поселилась во мне.
Может, смерть теперь кружит надо мной, как падальщик.
А может… я просто схожу с ума.
Читать эксклюзивные истории в ТГ https://t.me/bayki_reddit