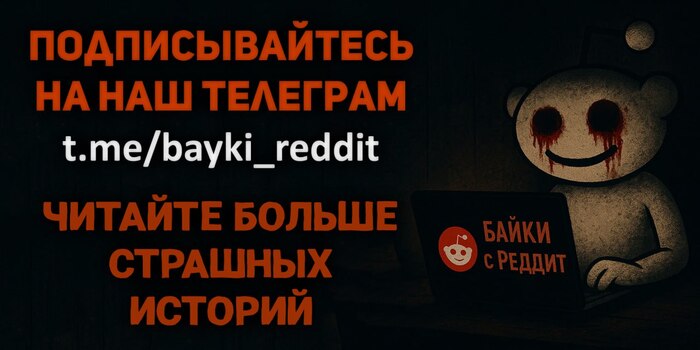Глава 1: На борту "Нептуна"
Солнце тонуло в море, оставляя на воде багровые пятна, словно кровь из свежей раны. Я, Итан Арчер, стоял на палубе "Нептуна", вцепившись в перила, пока дерево не заскрипело под пальцами. Ветер нёс вонь гнили — тяжёлую, кислую, жгущую горло — и старый страх, страх воды, поднялся из глубин памяти, сжимая меня. Мы — Джек, Алекс, Анна и Борис — отправились отпраздновать конец университета, но я гнался за большим: за историей, что вытащит меня из теней, сделает писателем, чьё имя будут шептать. Я мечтал об этом с того дня, как отец бросил мою первую рукопись в огонь, сказав: "Слова — не жизнь, Итан. Живи в реальном мире."
Вода преследовала меня с семи лет. Я чуть не утонул в озере — водоросли обвили ноги, тянули вниз, тени мелькали в мутной глубине — и кричал, пока лёгкие не обожгло холодом. С тех пор я писал, чтобы заглушить этот ужас, доказать, что могу создать нечто большее, чем страх. Джек уговорил меня поехать. "Приключение, Итан," — сказал он, хлопнув по плечу с широкой улыбкой, что скрывала тьму в его глазах — тьму, унаследованную от деда той ночью со шкатулкой.
Джек взял яхту у Николаса. Он посмеивался над дневниками старика, называл их бредом сумасшедшего, но я видел, как сжимались его кулаки при упоминании Лунной бухты. Там была тайна, которую он хотел разгадать — доказать, что дед не сошёл с ума, что кровь в его жилах что-то значит.
Алекс стоял у штурвала, напевая старую мелодию, похожую на прощание. Его длинные волосы хлестал ветер, но за бравадой скрывался страх одиночества. Он однажды рассказал, как мать ушла, оставив его в пустом доме с запиской: "Прости, не могу." Эхо стало его спутником, и тишина пугала его больше смерти. "Готов к поездке?" — крикнул он, и я кивнул, хотя сердце билось неровно, как барабан перед битвой.
Анна сидела с книгой по морской биологии, вцепившись в страницы, пока те не смялись. Она потеряла брата, Джимми в море — шторм унёс его лодку, а она осталась дома, боясь волн, отрицая всё, что не объяснялось цифрами и фактами. Но её глаза выдавали тоску по нему, мальчику, что пел ей перед сном.
Борис сидел в углу, его лицо — карта морщин, вырезанных ветром и солью. Он знал деда лучше всех, был с ним в ту ночь, когда всё началось. "Некоторые тайны лучше не трогать," — сказал он, глядя на Джека с тяжестью, что жила в нём десятилетиями. Когда-то давно он обещал Николасу присматривать за его кровью, и это обещание вернуло его к морю, которое он поклялся забыть. Шрам на его руке — старый, глубокий, как след ножа — был памятью о том, что он не смог остановить.
Мы вошли в Лунную бухту на закате, небо пылало красным, вода лежала зеркалом, скрывающим тайны. Но под поверхностью что-то шевелилось — тени, тонкие и быстрые, мелькали, как воспоминания, ускользающие из рук. Холод пробрал меня, хоть я и винил ветер, воющий в снастях.
Алекс развёл костёр на берегу, пламя отбрасывало тени — слишком длинные, слишком изломанные, чтобы быть нашими. Мы сидели близко, и на миг я ощутил тепло — не от огня, а от них, людей, ставших мне больше, чем семья. Анна улыбнулась, впервые за день, вспоминая, как мы спорили о звёздах до рассвета, её взгляд смягчился. Алекс хлопнул меня по плечу: "Ты напишешь об этом, Итан, а я первым прочту." Джек подмигнул: "Если не утонешь раньше." Мы рассмеялись, и это был последний светлый миг перед тьмой.
Борис заговорил, когда угли потускнели, его голос был низким, как гул из глубин. Он вдохнул, словно слова могли удержать нас от черты, которую пересёк Николас. "Слышали легенду об этой бухте?" — спросил он, тень прошлого мелькнула в его глазах.
"Глаза Бездны жили здесь — существа старше света, чуждые всему, что мы зовём жизнью. Жрецы приносили жертвы, отдавая кровь и разум, чтобы видеть их глазами, заглянуть в пустоту за звёздами. Они создали Глаза Глубин — амулеты, что соединяли миры, живые артефакты, выбирающие носителей. Один потерялся здесь, когда жрец прыгнул в воду, крича о разуме, что ускользал, как песок из рук."
Анна фыркнула, её скептицизм был щитом от страха. "Сказки. Нет доказательств, только старые байки." Но её рука дрожала, сжимая книгу, и я заметил, как она взглянула на воду.
"Корабли пропадали здесь," — продолжал Борис, его голос тяжелел. "Обломки всплывали с символами, что никто не мог прочесть, вырезанными так глубоко, что дерево раскалывалось. Те, кто возвращался, слышали голоса — голоса, знавшие их имена, их мысли." Его взгляд упал на Джека. "Твой дед нашёл один из тех амулетов. Его кровь связала его с ним — и нас через него."
Вода загудела, словно сердце билось в глубине земли, и я услышал шёпот — низкий, мокрый, зовущий: "Итан."
Ночь сгустилась над бухтой, чёрной завесой, тяжёлой и непроницаемой. Джек достал шкатулку — её резьба извивалась в свете костра, оживая под нашими взглядами. Он открыл её, показав амулет — тёплый, как живая плоть под пальцами, его символы пульсировали в такт его дыханию. "Дед предупреждал меня," — сказал он, его голос дрожал, выдавая страх глубже, чем он признавал.
Борис вытащил дневник Николаса — потёртый, с солёными пятнами на страницах. "Я был с ним," — сказал он, вина мелькнула в его глазах, старая и гноящаяся. "Я не остановил его." Он открыл дневник и прочёл, его голос дрожал, как ветер над водой:
"Они зовут меня. Что-то смотрит из-под киля, из глубин без дна. Амулет шепчет моё имя, и я не могу его заглушить. Я вижу глаза — тысячи глаз, светящихся во тьме, и они знают меня."
Анна встала, её движения были резкими, словно она боролась с собой. "Это психоз. Усталость, алкоголь, ничего больше," — сказала она, но её голос дрогнул, когда гул воды стал громче, проникая под кожу. "Джимми посмеялся бы надо мной," — добавила она тихо, слёзы блеснули в её глазах, память о смехе брата, потерянного в том шторме.
Алекс повернулся к воде, его лицо побледнело. "Слышите?" — спросил он, и земля дрогнула под нами, будто что-то проснулось внизу. Я почувствовал, как кровь деда ожила во мне, горячая и живая, связывая меня с тем, что ждало впереди.
Ветер стал острее, неся запах тлена — гниющих водорослей с чем-то едким, как ржавчина на языке. Рыбы кружили вокруг яхты, их движения были слишком точными, словно ими управляла невидимая воля, и вода под ними теплела, будто дышала жаром живого существа. Я мельком увидел тень — длинную, текучую — она промелькнула под поверхностью, исчезла, когда я моргнул, оставив круги, что не гасли.
Анна стояла у борта, глядя в воду, её лицо было белым, как мел. "Это не моё отражение," — сказала она, отступая, её голос дрожал. В тёмном блеске её губы растянулись в широкую, неестественную улыбку, хотя она дрожала, сжимая кулаки. "Это просто игра света," — пробормотала она, но её глаза выдали ужас, и я услышал её шёпот: "Джимми, ты бы спел мне сейчас," — память о брате, чья песня была её последним утешением.
Шёпот прорезал вой ветра — "Итан" — низкий, мокрый, как дыхание из глубины. Я схватил тетрадь, нацарапал: "Они знают меня," но рука дрожала, как в тот день, когда отец сжёг мои слова, оставив пустоту, которую я пытался заполнить строками.
Алекс присоединился к ней у борта, его бравада таяла. "Там что-то есть," — сказал он, его голос был тише обычного, пропитанный страхом, что жил в нём с тех пор, как мать ушла, оставив лишь эхо.
Джек держал амулет перед собой, его пальцы сжимали его, пока костяшки не побелели, кровь капала на символы, впитывалась, заставляя их вспыхивать слабым зеленоватым светом, что плясал в его глазах. "Я слышу их," — прошептал он, и тепло амулета словно текло из его ладоней, чужая жизнь пробуждалась под его касанием.
Анна бросилась к нему, схватив за руку. "Выброси его! Это массовое внушение, ничего больше!" — крикнула она, но он оттолкнул её с силой, которой у него раньше не было. Она упала, ударившись о палубу, и я услышал её бормотание: "Прости, Джимми, я не спасла тебя," — её голос ломался, тяжёлый от вины за брата, потерянного в волнах.
Море загудело, словно живое существо пробуждалось от долгого сна. Тени приблизились к яхте — текучие формы, их глаза резали ночь светом, холоднее льда и старше звёзд. Я почувствовал, как кровь деда отозвалась во мне — Николаса, Джека, моя собственная — связанная с этим амулетом, что звал нас всех своим украденным теплом.
Вода вздыбилась, будто великан шевельнулся под ней, его рёбра ломали ткань моря. Гул поднялся из глубин, низкий и резкий, пронзал кости, заставляя их дрожать, как камертон после удара. Тени сгустились — текучие, чуждые, их формы мерцали в лунном свете, как жидкое стекло, глаза пылали во тьме холодным, нечеловеческим взглядом. Они не плыли — скользили, нарушая природу, каждый жест оставлял клочья тьмы, что таяли медленно, как дым в стоячем воздухе.
Борис крикнул сквозь шум: "Верни его в бездну, Джек!" Его голос дрожал, но в нём была сталь — память о Николасе, о той ночи, когда он стоял один, не сумев остановить друга.
Джек сжал амулет сильнее, кровь текла по его пальцам, впитываясь в символы, что пульсировали с его дыханием, тепло поднималось, как выдох хищника. "Они знают меня," — прошептал он, его глаза помутнели, стали чужими, полными света, не его собственного. "Они всегда знали меня."
Анна отступила к борту, её лицо побелело. "Это не сверхъестественное! Это газы, галлюцинации, что угодно, только не это!" — крикнула она, но её голос треснул, когда тень метнулась слишком близко, слишком реально. "Джимми сказал бы, что я спятила," — добавила она тихо, слеза скатилась по щеке, память о песне брата была её последним утешением.
Алекс споткнулся, добираясь до штурвала, скользя по мокрой палубе. "Мы убираемся отсюда!" — крикнул он, но его руки дрожали, и я услышал его бормотание: "Не хочу остаться один," — слова, вырванные из глубин, где жил его страх тишины, пустого дома.
Я смотрел на воду — она дышала, поднималась и опадала, как грудь спящего великана, и в каждом движении я чувствовал её взгляд. Шёпот — "Итан" — резал мой разум, как лезвие, и я написал в тетради: "Они видят меня," надеясь, что эти слова спасут меня, станут славой, которой отец никогда не увидит.
Двигатель кашлянул, издал долгий стон и заглох, как зверь, сдающийся под тяжестью судьбы. Алекс ударил кулаком по панели, ругаясь, его голос ломался, как у мальчика, зовущего мать, что ушла, оставив записку в пустом доме. "Проклятый хлам, работай!" — кричал он, но яхта застыла, будто что-то невидимое держало её.
Анна стояла у борта, глядя в воду, её губы шевелились, выдавая страх, что она отрицала. Её отражение ухмылялось в ответ — широко, неестественно — хотя она дрожала, вцепившись в перила, пока ногти не оставили следы. "Это иллюзия, обман света," — прошептала она, но её голос дрогнул, и я услышал: "Джимми, ты бы спел мне," — слова, что она несла, как рану.
Шёпот — "Итан" — шёл изнутри, из глубин моего разума, низкий и мокрый, как дыхание моря. Я обернулся, ожидая кого-то за спиной, но там были лишь тени — слишком длинные, слишком изломанные, чтобы быть нашими, шевелящиеся, когда мы стояли неподвижно. Волна ударила по яхте, оставив на перилах слизь — густую, блестящую, воняющую гниющей плотью и ржавым железом, живую, пока она извивалась. Я отшатнулся, вспоминая озеро, водоросли, голос отца — "Слова — не жизнь" — сжигающий мои мечты в тот день.
Джек стоял посреди палубы, держа амулет, как священник держит крест перед демоном. "Они зовут меня," — прошептал он, его губы изогнулись в улыбке, что я не узнал, тепло амулета исходило от его рук, как призрак украденной жизни. Борис схватил меня за плечо, его пальцы впились в кожу. "Кровь твоего деда в нём — и в тебе, Итан. Амулет знает своих," — сказал он, его шрам ожил в тусклом свете, память о вине, гноившейся десятилетиями.
Мы заперлись в каютах, но тишина давила сильнее звука, обволакивая, как вода на глубине. Я лёг на койку, закрыл глаза, и сон пришёл быстро — тяжёлый, липкий, как смола. Я тонул в чёрной воде, тёплой, как кровь, но густой, обволакивающей меня, сливающейся с моей кожей. Тысячи глаз смотрели из тьмы, их свет резал мой разум, обнажая воспоминания — озеро, водоросли, отец, сжигающий мою рукопись, я, кричащий, что слова — моя жизнь. Они шептали моё имя, катая его на языках, которых не должно быть, и я кричал, но вода залила рот, превратив крик в бульканье.
Я проснулся, задыхаясь, кашляя, пол подо мной был мокрым, хотя иллюминатор закрыт. Следы вели к двери — узкие, перепончатые, как у лягушки, но длиннее, изогнутые, с каплями слизи, что светились слабым зелёным светом, тёплые, как надежда, что отец прочтёт мои строки. Я коснулся одной, и на миг она шевельнулась, живая.
Стук раздался из соседней каюты. Я ворвался к Анне — она сидела на койке, обхватив голову, её волосы были влажными, хотя она не выходила наружу. "Они были здесь," — прошептала она, указав на подушку, где слизь блестела, как ртуть, воняя морем. "Джимми пел мне перед тем штормом," — добавила она, её голос ломался от любви и вины, тень брата, которого она не спасла.
Джек не спал. Я нашёл его у иллюминатора, глядящего в ночь, бормочущего слова, что царапали воздух, как ногти по стеклу. Его руки покрывали свежие царапины, глубокие, будто он вырезал что-то из себя, а амулет лежал на столе, тёплый, как дышащая плоть, его символы пульсировали с его бормотанием. "Я вижу их," — сказал он, его голос был не его, а хором, что поднимался из глубин.
Утро пришло с серым светом, что сочился сквозь тучи, не разгоняя тьму, а делая её липкой, как паутина на коже. Джек сидел на палубе, вырезая символы на предплечьях — такие же, как на амулете — кровь текла тонкими струйками, впитываясь в дерево, темнея, как живая плоть. "Я стану ими," — бормотал он, его глаза были мутными, как застойная болотная вода, лишённые света, что я в нём знал.
Анна схватила меня за руку, её пальцы впились, оставляя следы. "Он спятил, Итан. Надо уходить," — сказала она, её голос дрожал от страха, что родился в ночь, когда Джимми уплыл в море, а она осталась на берегу, не простив себя.
Алекс стоял рядом с Джеком, скрестив руки, но его бравада трещала. "Он знает, что делает. Это приключение," — сказал он, но его голос дрожал, и я услышал шёпот: "Не бросайте меня," — слова, вырванные из глубин, где жил его страх одиночества, пустого дома.
Борис отвёл меня в сторону, его шаги были тяжёлыми, как у человека, несущего бремя десятилетий. "Амулет выбрал его кровь, как выбрал кровь Николаса," — сказал он тихо, вне слуха Джека, его шрам пульсировал, как живая рана, память о ночи, когда он потерял друга. "Без жертвы он не отпустит его — и нас."
Глава 10: Воспоминания Бориса
Борис смотрел на воду, его взгляд был тяжёл, как якорь, что тянет ко дну. "Это было в семьдесят третьем," — начал он, его голос был низким, густым от боли, что гнила в нём годами. "Мы с Николасом нашли амулет в трюме старого судна у Лунной бухты. Он взял его — кровь капнула с его ладони, порезанной ржавым гвоздём — и символы ожили, извиваясь, как черви. Той ночью он кричал о глазах, что смотрят из воды, из его снов. Я хотел выбросить его за борт, но он схватил меня за руку и сказал: ‘Он знает меня, Борис. Мы бросили его в море, но к утру он был в его каюте, покрытый слизью, что воняла гнилью, тёплый, будто поглотил его жизнь. Я не остановил его — он ушёл в воду, а я остался, глядя, как волны сомкнулись над ним."
Слёзы блеснули в его глазах, и он сжал кулак. "Я любил его, как брата. Теперь он вернулся за вами — за кровью, что связывает нас всех. Я пришёл с вами, чтобы покончить с этим, сделать то, что не смог тогда."
Ночь легла на бухту, как чёрная завеса, луна висела низко, её свет резал воду на треснувшее зеркало. Глаза Бездны вернулись — их сияние пробивалось из глубин, как маяки в тумане, но это был свет, что манил к гибели, не к спасению. Они кружили вокруг яхты, их текучие формы мерцали в лунном свете, оставляя шлейфы тьмы, и гул нарастал в ритм, что тряс доски под нами, рождая боль в груди, будто моё сердце ломалось под его тяжестью.
Алекс стоял у двигателя, руки в масле, лицо в поту. "Запускается!" — крикнул он, в его голосе была нить надежды, хрупкая, как паутина, рвущаяся на ветру. Он повернул ключ, двигатель взревел, но тень ударила снизу — длинная, текучая, живая. Она схватила его за ноги, и я видел, как его пальцы царапали металл, ногти ломались, оставляя кровавые полосы. Его крик был коротким, резким, оборвался бульканьем, когда вода поглотила его, и он прошептал: "Мам, я здесь," — зовя ту, что оставила его в тишине. Кровь растеклась по поверхности, чёрная в лунном свете, исчезая, будто что-то выпило её снизу.
Анна закричала, рухнув на колени, её руки рвали волосы, выдирая пряди. "Я вижу его," — прошептала она, её глаза опустели, глядя туда, где утонул Алекс, но видя что-то другое — может, Джимми, поющего ей в последний раз. Джек засмеялся — низким, гортанным звуком, что резал воздух, как нож, не его собственным. "Они взяли его," — сказал он, держа амулет, его кровь впитывалась в символы, что вспыхивали светом.
Я бросился к нему, пытаясь вырвать амулет, но он оттолкнул меня с нечеловеческой силой, и я упал, ударившись о борт, чувствуя под руками слизь — холодную, живую, как пальцы, тянущиеся ко мне. Борис крикнул: "Кровь! Оно требует крови!"
Борис бросился к Джеку и вырвал амулет из его рук — пальцы Джека хрустнули, будто кости размягчились. "В бездну!" — рявкнул он, швырнув его за борт в тёмную воду, что поглотила его с глухим всплеском. На миг всё замерло — гул стих, тени отступили в глубины, их глаза потускнели, буря утихла, оставив лишь слабое эхо ветра, шепчущего в снастях.
Мы стояли, тяжело дыша, глядя на воду, теперь неподвижную, как мёртвое зеркало. Анна поднялась, её лицо было мокрым от слёз, но молчала, сжимая книгу, что связывала её с Джимми. Я хотел заговорить, нарушить тишину, но слова застряли в горле, как грязь, и я лишь написал: "Мы свободны."
Час спустя тишина разорвалась — низкий, скребущий звук, будто что-то касалось корпуса. Я шагнул к краю и увидел тень — длинную, текучую, её глаза светились в ночи. Она поднялась из воды, её пальцы, сплетённые из слизи и тьмы, положили амулет на палубу, слизь капала с него, воняя гнилью и смертью, его тепло было живым, как плоть, укравшая наше дыхание. Анна схватила нож с пола, её движения были лихорадочными. "Мы уничтожим его!" — крикнула она, подняв нож, но он выскользнул из её рук, звякнув о палубу. "Кровь зовёт его," — сказал Борис, его голос был мягким, тяжёлым от рока, его глаза смотрели на меня с тяжестью, что я не хотел принять.
Джек сорвался с верёвок, которыми мы его связали, разрывая их, как бумагу, его руки покрывали символы — глубокие, вырезанные до мяса, кровь текла, питая что-то невидимое. Он выхватил нож из руки Бориса и начал резать себя с точностью, повторяя узоры амулета. "Я увижу их," — прошептал он, его голос сливался с гулом, что вернулся из глубин, низким, мокрым хором.
Мы с Борисом бросились к нему. Я схватил его за плечи, но его кожа была скользкой от крови и слизи, и он вывернулся, ударив меня локтем в грудь. Воздух вырвался из лёгких, и я упал, задыхаясь. Борис попытался повалить его, но Джек рванулся с неестественной силой, отбросив старика к борту, нож звякнул о палубу. Анна стояла в стороне, её глаза были пустыми. "Отпусти его," — сказала она тихо, её голос был густым от боли за Джимми, ушедшего так же.
Джек шагнул к краю палубы, амулет в одной руке, нож в другой, его грудь была картой символов, слабо светящихся зелёным, как гниль в лесу. "Они ждут," — сказал он, его голос стал хором десятков, говорящих через него. Он перешагнул борт, и вода сомкнулась над ним с глухим всплеском, тени ринулись к нему, вспыхивая в глубинах, как молнии в чёрном небе. Море взревело, яхта содрогнулась, и я почувствовал, как что-то отпустило нас — невидимая тяжесть ушла, но я знал, что это не конец.
Мы вернулись на берег на рассвете, небо было серым и тяжёлым, как мокрый бетон, солнце не могло пробить тучи. Яхта скрипела, будто оплакивая то, что пережила, её корпус был испятнан слизью, что вода не смывала, оставляя следы, как древние письмена. Мы молчали — слова казались слишком хрупкими против того, что осталось в Лунной бухте, против тени, что вернула амулет.
Дома я пытался писать, поймать историю, что вытащит меня из теней, но каждый день находил следы — мокрые, перепончатые — на полу, всё ближе к моей кровати каждую ночь. Они воняли тленом, тёплые и живые, и я писал: "Они идут за мной," надеясь, что эти строки спасут меня, станут славой, которой отец никогда не увидит.
Анна звонила каждый день, её голос становился слабее, тише, как эхо, тающее в пустоте. "Я вижу Джимми в зеркалах," — шептала она, задыхаясь, и однажды сказала: "Я люблю тебя, братишка," — вспоминая его, мальчика, что пел ей перед сном, её голос теперь был полон любви, что она не дала вовремя.
Борис исчез через неделю. Я пошёл к нему домой — дверь приоткрыта, воздух густой от соли и гнили, как в трюме затонувшего корабля. На столе лежал его нож, ржавый, хотя несколько дней назад он был чистым, и записка: "Простите. Я должен был забрать его." Я понял: он ушёл за амулетом, чтобы разорвать круг, начатый с деда, спасти нас, как не смог спасти Николаса.
Я копался в архивах, ища ответы в пожелтевших газетах и судовых журналах, где Лунная бухта возникала, как проклятие, растянутое на века. В 1893 году шхуна Морская дева вошла в бухту и пропала — обломки всплыли в двадцати милях к северу через месяц, покрытые символами, такими глубокими, что дерево раскололось. В 1927 году рыбак вернулся один из экипажа из пяти, крича об "глазах в воде" — через три дня его нашли мёртвым в хижине, с узорами, вырезанными на груди до костей. В 1951 году команда учёных исчезла, оставив магнитофон: низкий, мокрый шёпот повторял их имена, пока лента не оборвалась тишиной.
Я нашёл книгу — тонкую, в кожаном переплёте, без автора, пахнущую солью и плесенью, её страницы были исписаны от руки. Она говорила о Глазах Бездны — существах из "чёрной пустоты за звёздами", старше света, старше времени, питающихся кровью и разумом. Жрецы отдавали свою кровь, связывая её с Глазами Глубин, амулетами, что жили, выбирали носителей и возвращались, пока долг не был оплачен. Дед коснулся его, его кровь капнула — он заплатил жизнью. Джек унаследовал эту связь, и я тоже — я коснулся его крови в борьбе на палубе, и теперь моя очередь. Я написал в тетради: "Кровь — ключ," и страницы пожелтели, будто море уже коснулось их пальцами.
Я проснулся ночью от гула — низкого, пульсирующего, как в бухте, режущего воздух и кости. Комната была холодной, воздух влажным, пропитанным солью и гнилью, как в трюме затонувшего корабля. Амулет лежал на столе — я утопил его в реке три дня назад, видел, как он тонет, но тень вернула его, его тепло текло под моими пальцами, как украденное дыхание. Я увидел его в окне — текучее, длинное, его глаза светились, как мёртвые звёзды — и оно ускользнуло, оставив слизь на стекле, шевелящуюся, живую.
Я взял амулет — он пульсировал теплом, живой, и в его глубинах отразилось моё лицо, но не моё: глаза пустые, белые, как у слепца, рот растянут в улыбке, что я не делал. Оно шевельнулось, подмигнуло мне, и я уронил его, задыхаясь от ужаса, что сжал горло. Голоса шептали: "Итан," — низко, влажно, как песок, падающий с лопаты, поднимаясь из стен, пола, из-под кровати, окружая меня. Я включил свет, но тени в углах шевельнулись, потянулись ко мне, как руки, и я выбежал наружу, где шёпот вплетался в ветер, в скрип деревьев.
К утру я нашёл следы — мокрые, перепончатые — от порога к моей кровати, длиннее, глубже, чем раньше, с каплями слизи, что светились слабо. Зеркало в ванной показало Джека — его глаза сияли, губы шептали моё имя — и я разбил его, но осколки продолжали двигаться, складывая его ухмылку. Я позвонил Анне, но она не ответила, её последнее сообщение: "Они здесь. Джимми зовёт," — её голос сорвался в рыдание, шёпот — не её — произнёс моё имя.
Глава 17: Последняя жертва
На следующий день я поехал к Анне. Её дом стоял открытым, окна нараспашку, несмотря на дождь, что лил внутрь, смешиваясь с вонью соли и гнили. Пол был мокрым, отмечен следами — узкими, перепончатыми, как мои — ведущими глубже внутрь. В кухне её книга по морской биологии лежала раскрытой — страницы рваные, исписанные символами амулета, чернила размазаны, будто писали мокрыми руками, отчаянная попытка цепляться за разум.
В спальне записка: "Они не отпустят," и под ней отпечаток ладони — слишком длинный, перепончатый, воняющий морем и смертью. Кровать была пуста, простыни промокли, прядь её волос на подушке, слипшаяся от слизи. Я вышел к пруду за домом — маленькому, заросшему водорослями — и вода заколыхалась, хоть ветра не было. В глубине я увидел Анну — её глаза белые, пустые, как моё отражение — она стояла под водой, подняв руку, чтобы поманить меня. "Джимми, я с тобой," — прошептала она, её голос был полон любви, что она не дала, прощание с братом в этом последнем видении. Мои ноги шагнули вперёд, но я развернулся и побежал, зная, что мой долг близок.
Того же утра Бориса нашли на берегу — слизь покрывала его тело, таяла на солнце, амулет был сжат в его руке, его символы светились, как на коже Джека. Его глаза были открыты, пусты, но лицо спокойно, будто он обрёл покой, взяв вину за нас, за Николаса, которого любил, как брата.
Я пишу это в своей комнате, слыша волны — не снаружи, а внутри, в голове, в венах, где они шепчут, зовя меня низким, мокрым голосом, неумолимым, как прилив. Амулет лежит передо мной, его символы извиваются, как черви под кожей, его тепло не его собственное, а украденное у нас — у тех, чья кровь питала его, как Глаза Бездны питались нашими душами. В нём я вижу их всех: деда, кричащего в пустоту; Алекса, чьи кости хрустят в глубине, зовущего мать; Анну, манящую из пруда с любовью к Джимми; Джека, чьи глаза сияют в воде; Бориса, сжимающего амулет в мёртвой руке, чтобы спасти нас. Я вижу себя — там, внизу, с ними, где слова больше не важны.
Я топил его в реке, сжигал в огне, но тень вернула его — текучая, живая, её глаза смотрели из ночи. Шаги звучат за дверью — мокрые, тяжёлые, с хлюпаньем капающей слизи. Они здесь. Моя кровь платит долг — деда, Джека, моя собственная — что связал меня с Глазами Глубин в тот момент, когда я коснулся его на палубе.
Я пишу, чтобы кто-то знал: Лунная бухта — это дверь, и если ты коснёшься её, они придут. Моя ручка дрожит, чернила текут, как вода, поднимающаяся вокруг меня. Дверь скрипит, тень падает на страницу, и шёпот зовёт: "Итан." Они здесь, и я иду к ним.