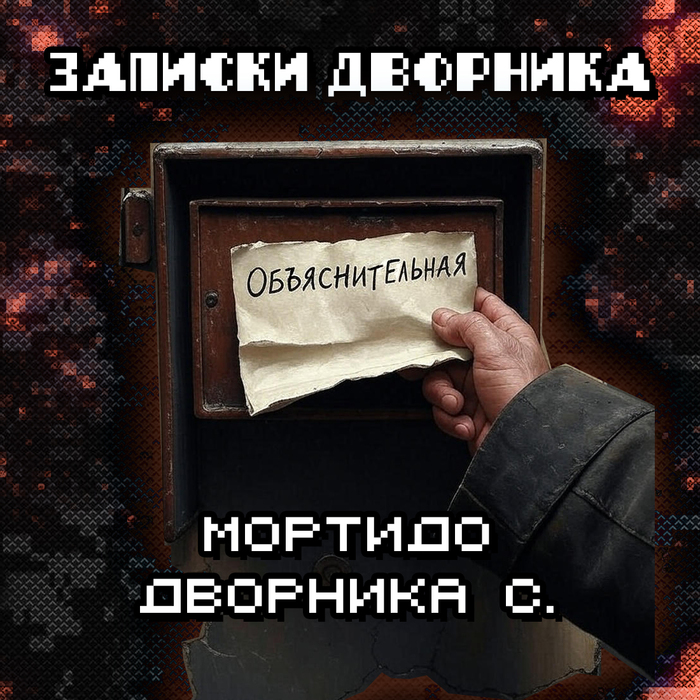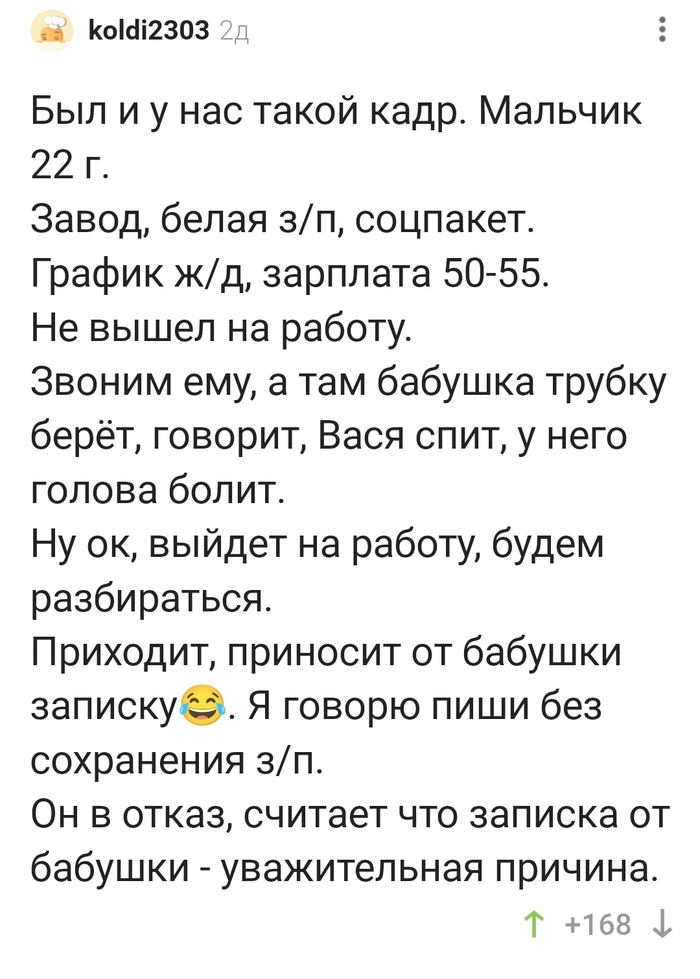Дворник С. не явился на уборку. Для провинциального города Т. сие происшествие оказалось событием неслыханным, даже скандальным. Жители дома говорили о дворнике различно: одни считали его за добросовестного труженика, исправно метущего двор и не предающегося губительным порокам. Другие же находили в С. некую душевную тонкость, несвойственную людям его звания. Вот эта-то тонкость душевной организации и погубила его.
Случившееся столь противоеречило установленному миропорядку, что председатель товарищества собственников жилья, К. – особа, чей возраст располагался где-то меж цветущими двадцатью и благоуханными восьмьюдесятью, ощутила в душе своей движение, сродни геологическому.
Недовольство свое К. излила, по установленной традиции, посредством аудиопослания в мессенджере, коий ныне почти что под запретом. Голос ее, дребезжащий и властный, трясся от негодования и намекал на младенческую незрелость дворника. Женщина упрекала слугу в нежелании трудиться «по-хорошему» и потребовала предоставить объяснительную записку прямо в её почтовый ящик.
Дворник С. правды скрывать не стал и излил ее на бумаге, как на духу, со всей присущей ему обстоятельностью. Сия объяснительная есть редкий экземпляр документа, всецело соответствующий своему названию и назначению.
Председательнице ТСЖ «Побоково 101» К. от дворника С.
Смиренно объясняю, почему не явился на уборку тридцать второго и тридцать третьего числа месяца пустобря.
Тридцать второго, признаться, счёл излишним браться за метлу, ибо тридцать первого убрал столь тщательно, что мусор, по моему многолетнему опыту, никак не мог вновь воспроизвестись в подобном изобилии. Считаю сей довод не праздным, ибо исполняю службу свою через день уж много лет и оттого вижу в этом разум.
Однако же неявка во второй день имеет причины глубокие, психофизиологические. Далее погружусь в их изложение, дабы вы, К., если хватит сил вашего духа дойти до конца сего послания, могли не только понять, но, страстно надеюсь, и простить меня.
Вообразите же себе человеческую душу, прикованную, словно каторжник к тачке, к делу простому, но монотонному. Человека подтачивают ранние подъемы, смрад и вознаграждение скудное по сравнению с министерским. В таком положении даже душа, облеченная в самую крепкую волю, с течением времени неизбежно начнет истощаться. Сперва утратит ловкость, потом проникнется леностью, а там и вовсе возымеет к сему действу острое, физиологическое отвращение.
Если не дать сей душе передышки, не позволить ей отвлечься на месяц, а лучше на полтора, то каждое новое соприкосновение с работой будет даваться ей все тягостнее. Хотя работа сия и остается всё той же. И чем более воли тратит человек на преодоление сего отвращения, тем ненавистнее становится ему труд.
В такой ситуации оказался и я, не видевший отпуска вот уже два года.
Многие люди, ввергнутые в подобную экзистенциальную трясину, устремляются к небытию, кое один венский доктор окрестил «мортидо». Сие смертострастное влечение выражается обычно в курении, пьянстве, сквернословии и иных привычках, жизнь сокращающих. Я же, пребывая в состоянии глубочайшей душевной смуты и тоски, вознамерился приблизить свой конец иным, более гастрономическим способом – посредством обильного вкушения булок.
Вечером тридцать второго пустобря, обуянный тошнотой, как выразился бы один французский философ, я отправился в гастроном и накупил яств: чебурек, самсу с говядиной, греческую улитку со шпинатом, два берлинских пончика, слойку с малиновым вареньем, косичку с курицей, синнабон, пиццу малую, онигири, батончик протеиновый, чикенбургер, круассан шоколадный, эчпочмак, ломоть морковного торта, два эклера и пирожное песочное.
Все сие мучное богатство было мною поглощено в час ночной, на сон грядущий, что и привело к плотским мучениям. Отмечу с чувством глубокой ответственности, что я, человек предусмотрительный, пытался бороться с последствиями: принял калий с магнием для уменьшения отеков, ферменты пищеварительные, а под конец трапезы – даже гречку с тыквой, брокколи и петрушкой, дабы нейтрализовать пагубное воздействие. К сожалению, соделанное лишь усугубило будущие страдания.
Поглощение сих яств есть не что иное, как наглядная иллюстрация смертного греха, именуемого чревоугодием. Если суть смертного греха в приближении к смерти, то увы – утром я восстал ото сна и с ужасом обнаружил, что успеха в предприятии своем не снискал.
Переедание не убило меня, но и не сделало меня сильнее, как бы не заверял немецкий пышноусый мудрец. Сил не было вовсе. Все существо мое стонало, веки отяжелели, рот наполнился густою слюной, а живот раздулся. Ни стоны, ни движения, ни попытки дыхательной гимнастики – ничто не облегчало мою участь.
Хотя совесть шептала: «вставай, дворник, мети двор, ибо долг зовёт», тело моё вопияло иное: «лежать». После десяти минут упорной борьбы я капитулировал и рухнул на одр свой. Лежал и наполнялся чувством вины за невыход на уборку, но не был в состоянии сдвинуть с места и мизинца.
По зрелом размышлении дерзаю утверждать, что блаженство, испытанное мною в процессе обжорства, неизмеримо выше того чувства вины, что я испытываю ныне за свой прогул.
Если же вы, сочтете нужным наложить на меня денежный штраф, признаю решение справедливым. Более того, я бы настаивал на нём, дабы на вырученные средства вы устроили себе малый гастрономический праздник на сон грядущий. Уверен, у вас есть свои способы давать выход вашему «мортидо», но если вы решитесь повторить мой путь – вы поймете всю глубину моих страданий и, быть может, простите меня.
Обещать, что впредь сие не повторится, не могу, ибо душа человеческая – потемки.
С глубочайшим уважением и поклоном,
Тридцать четвёртое пустобря, первый год цветения липы.