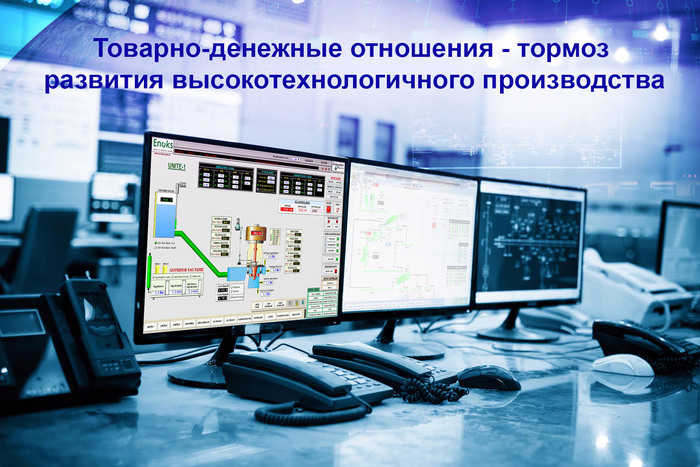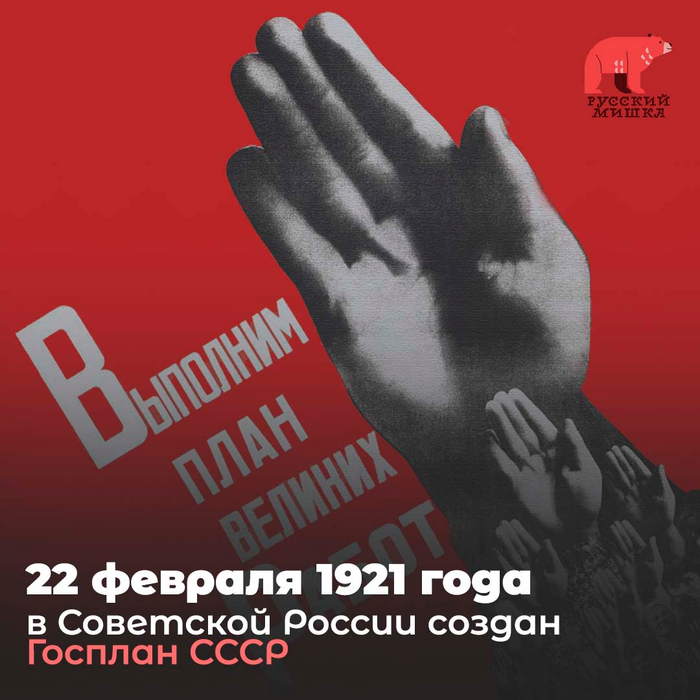За Правду
Экономика без товаров и денег
Очень часто бывает так, что человек находится в плену представлений, не до конца ясных, определяемых односторонне, упрощенно или, вообще, неверно. В том нет большой беды, когда дело касается разного рода философических мудрёностей, вроде экзистенциализма, эмпириокритицизма или герменевтики, не востребованных в практической жизни и влияющих на неё не более чем капризы погоды на Марсе. Много хуже, когда заблуждения вторгаются в область фундаментальных вопросов, формирующих мотивы принятия практических решений, в силу ложной трактовки таких широко распространённых понятий, как собственность, товар, деньги и т. п.
Кажется, что может быть не так с «собственностью»? Что это, если не известная всем триада - права владения, права пользования и права распоряжения? Что может быть непонятного с деньгами? И уж, конечно, определение товара разве не способен дать каждый, хоть раз бывавший в магазине?
Не всё так просто. Юридические правомочия не вскрывают характера отношений, порождаемых «собственностью», и являются лишь её формой безотносительно содержания. Зубная щетка, пакет молока, штиблеты, земля, фабрика, программный продукт, кинофильм, знание – всё подряд именуется «собственностью», несмотря на очевидные сущностные различия между ними. Столь широкое обобщение обессмысливает само понятие «собственности», обязывает различать личную собственность, как отношение человека к вещи и частную собственность, как форму общественных отношений. Например, сорочка является личной собственностью, поскольку человек удовлетворяет свою естественную потребность в одежде, пользуется ей как вещью. Но фабрика уже не личная собственность, поскольку, будучи средством производства, никакой предметной потребительной ценностью не обладает и не может быть использована в повседневном обиходе. Завод, шахта, земельные угодья могут быть лишь частной или общественной собственностью, диктующей формы отношений между людьми, собственников с одной стороны и работников – с другой.
То же широкое обобщение применяется и к деньгам, как средству платежа и капиталу, несмотря на очевидное различие в операциях покупки товара для личного потребления и его покупки с целью перепродажи. Какая разница для покупателя, берущего в магазине хлебный батон, расплачивается ли он долларами, рублями, тугриками или какими-нибудь именными талонами? Никакой, поскольку в любом случае он их лишается, приобретая необходимый себе продукт. Совсем иначе дело обстоит с деньгами, как капиталом. Его владелец, приобретая товар для перепродажи, имеет целью не удовлетворение своей потребности, а увеличение, приращение капитала, что порождает качественно иное общественное отношение.
Это обстоятельство подчеркивается Марксом: «Непосредственная форма товарного обращения есть Т — Д — Т, превращение товара в деньги и обратное превращение денег в товар, продажа ради купли. Но наряду с этой формой мы находим другую, специфически отличную от нее, форму Д— Т — Д, превращение денег в товар и обратное превращение товара в деньги, куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своем движении этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже по своему назначению представляют собой капитал».
Каким образом осуществляется простой товарный оборот? Сапожник-ремесленник произвел обувь (Т – товар), продал её на рынке, получил деньги (Д) и купил на них необходимые для возобновления производства расходные материалы, продукты питания, одежду и т. п. (Т). Цикл замкнулся. Также действует и наёмный работник, продающий единственный товар, которым он располагает – свою рабочую силу. Продал свой труд, получил деньги, купил необходимые предметы потребления, восстановил свою рабочую силу. В обоих случаях деньги играют второстепенную, техническую роль посредника в операциях товарного обмена.
Совсем иной характер деньги обретают в форме капитала. Капиталиста не интересует товар, как потребительская ценность. Его цель – увеличение капитала, получение прибыли. В результате такой махинации, как Д— Т — Д человечество не обогащается ни на горсть зерна, ни на пару носков, ни на одну умную мысль. Владелец капитала ничего не производит. Он покупает готовый товар и перепродает его, извлекая прибавочную стоимость. Кто-то может возмутиться – а как же Форд? Разве он не производил массово автомобили? Разве он не гнался за прибылью? Разумеется, и производил, и гнался. Только он действовал в рамках непосредственной формы товарного обращения, как крупный «ремесленник» - производил продукцию, продавал, вкладывая полученные средства, в основном, в производство.
Рыночные идеалисты в своих наивных мечтаниях именно этот период бурно развивающегося капитализма и имеют в виду. Отсюда и популярность различных «неоконсервативных» идей, причем даже в среде наёмных работников, грёзы о возврате к «правильному», производительному капитализму, где их труд, их таланты и знания будут востребованы обществом.
Двусмысленность понятий порождает не только путаницу в рассуждениях, но вызывает и стремление воспользоваться массовым заблуждением совокупным владельцем «капитала» - классом капиталистов, дабы представить свой шкурный, эгоистичный интерес как необходимый элемент хозяйствования, якобы «стимулирующий» развитие, приписывая прогресс науки, развитие технологий исключительно наличию «священной и неприкосновенной» частной собственности и корыстной мотивации труда.
Однако к доводам заинтересованных лиц следует подходить с осторожностью, ничего не принимая на веру, подвергая сомнению кажущиеся очевидными утверждения. Например, «политэкономический» пройдоха будет утверждать, что общественное разделение труда обуславливает товарность производства. В чём критически мыслящий оппонент может резонно усомниться. Как же так, любое крупное производство использует разделение труда, но при этом отдельные цеха не производят товар, они изготавливают комплектующие узлы и детали, которые в процессе сборки превращаются в готовое изделие, обретающее товарную форму лишь после поступления в торговлю. И нет никаких теоретических ограничений масштабов подобного производства. Это может быть и обувная мастерская с десятком работников, каждый из которых выполняет определённую операцию; может быть и транснациональный промышленный гигант с бюджетом небольшого государства – в обоих случаях само производство имеет нетоварный характер и не нуждается ни во внутреннем торговом обороте, ни в деньгах, ни в капитале. Внутри производства царят законы физического мира, господствуют технологии, знания, опыт, созидательный труд и разум человека. Никакого рынка. Никакой конкуренции. Единое производство, планирование, управление, приказы, распоряжения. Прямо, как бушевали перестроечные публицисты - «командно-административная система» в чистом виде.
Разумеется, такое производство, сколь крупным бы оно не было – ещё далеко не социализм. Социализмом оно станет лишь тогда, когда, увеличившись до размеров страны, объединив в себе всех разрозненных частных производителей в единое плановое народное хозяйство, будет принадлежать всем членам общества на равных правах. Когда каждый, внося свой посильный трудовой вклад, будет иметь свою, равную со всеми долю потребительских благ. Когда производственные отношения будут выстраиваться на солидарности и кооперировании, а не на торговом обмене и конкуренции. Когда равенство лишит питательной среды «частный интерес», сделает невозможным социальное расслоение, а само понятие классовости будет ассоциироваться у студентов с чем-то постыдным времен рабовладельческих формаций и феодальных деспотий.
Читатель может заметить явные отличия подобной экономики от господствовавших до недавних пор представлений о «развитом» социализме, как обществе классовом, сохраняющим неравенство, оправдываемое «различным трудовым вкладом», сохраняющим «социалистические» товарно-денежные отношения, финансовые расчеты в народном хозяйстве, обезличенные деньги, зарплаты, бухгалтерии и кассы по месту работы, прочие атрибуты капиталистического производства. В Конституции СССР это положение было закреплено в Главе второй, статье 16:
«Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и
инициативой предприятий, объединений и других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы».
Эта статья была приговором социализму в Советском Союзе. Партийными «идеологами» была предпринята попытка взять «плюсы» капитализма («хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы») и совместить их с плюсами социализма («государственных планов экономического и социального развития»). Но какой может быть «единый народнохозяйственный комплекс», если налицо «хозяйственная самостоятельность и инициатива предприятий»? Если законом освящен «частный интерес»? Если предприятия сами начинают решать, что производить и по какой «цене» продавать? Особенно, будучи, зачастую, монополистами в своей области?
Зачем и кому это было нужно? Ведь совершенно ясно, что расчленение народного хозяйства на отдельных товаропроизводителей не несет никакого положительного начала, дезорганизует планирование, провоцирует появление локальных интересов, разжигает эгоистические устремления, ведет к снижению качества продукции, затрудняет производство технологически сложных изделий, требующих строгой координации усилий и высочайшей исполнительской дисциплины. Ещё можно найти какие-то оправдания, когда речь шла о разрозненном мелкокрестьянском хозяйстве, доставшемся большевикам в наследство от царской России. Да, для полуфеодальных земельных отношений товарность была шагом вперёд, также как шагом вперёд является сам переход от феодализма к капитализму. Но, после организации крупного коллективного сельскохозяйственного производства, не было никаких неодолимых препятствий для преобразования их в аграрные предприятия промышленного типа, с выравниванием материального положения сельских трудящихся с городскими.
Несомненно, в сохранении товарно-денежных отношений, классовости, неравенства была заинтересована правящая партийно-хозяйственная бюрократия, имевшая привилегированное положение в обществе и не желавшая снижать свой социальный статус до уровня рядового советского трудящегося. Тем не менее, И. Сталин в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» отчасти предвидел гибельность для социализма сохранения товарного производства. Причем, с одной стороны он оправдывает использование товарно-денежных отношений, распространяет действие закона стоимости на социализм, а с другой стороны предупреждает о негативном влиянии этих отношений на будущее социализма:
«Поэтому задача руководящих органов состоит в том, чтобы своевременно подметить нарастающие противоречия и вовремя принять меры к их преодолению путем приспособления производственных отношений к росту производительных сил. Это касается прежде всего таких экономических явлений, как групповая – колхозная собственность, товарное обращение. Конечно, в настоящее время эти явления с успехом используются нами для развития социалистического хозяйства и они приносят нашему обществу несомненную пользу. Несомненно, что они будут приносить пользу и в ближайшем будущем. Но было бы непростительной слепотой не видеть, что эти явления вместе с тем уже теперь начинают тормозить мощное развитие наших производительных сил, поскольку они создают препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием. Не может быть сомнения, что чем дальше, тем больше будут тормозить эти явления дальнейший рост производительных сил нашей страны. Следовательно, задача состоит в том, чтобы ликвидировать эти противоречия путем постепенного превращения колхозной собственности в общенародную собственность и введения продуктообмена – тоже в порядке постепенности – вместо товарного обращения».
Т. е. в 1952 г. (времени написания работы), товарно-денежные отношения уже были анахронизмом, тормозившим развитие производительных сил. Далее, в ответе товарищам Саниной А. В. и Венжеру В. Г., Сталин пишет еще категоричнее:
«Критикуя «хозяйственную коммуну» Дюринга, действующую в условиях товарного обращения, Энгельс в своем «Анти-Дюринге» убедительно доказал, что наличие товарного обращения неминуемо должно привести так называемые «хозяйственные коммуны» Дюринга к возрождению капитализма. Т.т. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. Тем хуже для них. Ну, а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения о том, что переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распределения продуктов по потребностям исключают всякий товарный обмен, следовательно, превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в (меновую, М. С.) стоимость».
История не раз подтверждала правоту Энгельса о несовместимости товарно-денежных отношений с социализмом. Зловещий предвестник «перестройки», т. н. «косыгинская реформа» (реформа Либермана) 1965-1970 гг. продемонстрировала прямую связь падения эффективности производства с увеличением товарности, с ростом «материальной заинтересованности», «самостоятельности», «самофинансирования» и прочих дурно пахнущих экономических присадок. Тем не менее, с завидным упорством партийная бюрократия искала пути «реформирования» народного хозяйства именно на пути активизации шкурного интереса, внедрения политики «кнута и пряника» в попытках стимулирования всё более впадающей в стагнацию экономики. Дорога в противоположном направлении, в сторону ликвидации локальных «интересов», выравнивания зарплаты, лишения всякой привилегированности руководящих работников, совершенствования алгоритмов планирования и управления единым народнохозяйственным комплексом на базе последних достижений науки и вычислительной техники, похоже, партийными вельможами всерьёз даже не рассматривалась. А ведь именно отказ от товарно-денежных отношений, обеспечение равенства трудового участия, равенства в распределении были единственной возможностью не только эффективного реформирования экономики, но и обеспечения подавляющего превосходства в производительности труда и качестве жизни советских людей по сравнению с самыми развитыми капиталистическими странами.
Что же это такое, «нетоварная экономика», почему вызывает настороженное отношение сейчас, даже после сокрушительного провала «рыночных реформ»? Думаю, сказывается обывательский стереотип, отожествляющий товарность с наполнением магазинов «товарами», а нетоварность – с отсутствием таковых. Это в корне неверно. Можно даже сказать так – нетоварность производства требуется для насыщения потребительского рынка массой высококачественных, конкурентоспособных отечественных продуктов и товаров доступных каждому, а не только избранным.
Нетоварность означает всего лишь то, что предприятия и организации страны объединены в единый народнохозяйственный комплекс, ориентированный непосредственно на удовлетворение общественных потребностей в натуральных продуктах потребления и услугах. Завод, производящий локомотивы, не продает их на свободном рынке, а поставляет потребителю согласно плановым заданиям бесплатно, в нужном количестве и в соответствии с установленными сроками. Врач в поликлинике не оказывает платную услугу, а лечит больных, исходя из интересов пациента, а не размеров своей «прибыли». Образование дается молодому человеку не с целью подготовить покорную, профессионально ориентированную рабскую силу, ограниченную лишь обывательским интересом потребителя, а с целью воспитания всесторонне развитого человека, открытыми глазами смотрящего в мир, осознающего свое место в обществе как равного среди равных. Кто и кому должен за это «платить»?
Какова может быть «товарность» космического зонда, исследующего спутники Сатурна? Какова «рентабельность» исследования гравитации, взаимодействия элементарных частиц, природы «тёмной материи»? Ответ столь же очевиден, сколь естественен и вывод – самые сложные, самые передовые проекты могут быть осуществлены совершенно «нерыночно», нетоварно, без расчета на барыш или «частный интерес». Из того же нерыночного и нетоварного ряда всё здравоохранение, образование, оборона, наука, энергетика, транспортная инфраструктура и т. д. Все эти отрасли прекрасно могут обходиться без товарного обмена, будучи направлены непосредственно на удовлетворение общественных потребностей, а не частного «интереса».
Строго говоря, любой производительный труд невозможен без постановки цели и выбора средств её достижения, т. е. планирования, хоть при феодализме, хоть и при коммунизме. Даже конуру нельзя построить без плана, который если и не представлен в виде проекта на бумаге, то непременно находится в голове хозяина собаки. Труд и планирование неразрывно связаны и представляют собой две стороны единого процесса. За счет осознания цели, сложения усилий в трудовой деятельности, биологический вид Homo Sapiens и выделился из животного мира, в течении ничтожно короткого в масштабах геохронологии периода.
Либеральные страшилки, что-де планированием нельзя «всего предусмотреть», настолько убоги и примитивны, что позволяют предположить отсутствие вообще какой-либо либеральной «концепции», как продукта рационального мышления; есть грубый корыстный расчет материально мотивированных холуев от «науки», отрабатывающий заказ господ-«собственников», социальных паразитов на обоснование своей социальной привилегированности, своего классового господства, своих «прав» на сверхпотребление и иждивенчество. Достаточно обратиться к опыту советского планового хозяйствования, чтобы убедиться – даже в таких «непредсказуемых» условиях, как природно-климатические, плановая экономика прекрасно способна решить задачу бесперебойного обеспечения всех граждан страны полноценным питанием, прекрасно обходясь в том без биржевых «торгов», «фьючерсов», «кредитов» и прочих товарно-обменных махинаций на поприще борьбы страстей частнособственнических вожделений.
Если нетоварная экономика способна решать самые сложные задачи обеспечения важнейших жизненных потребностей, обеспечивать опережающее технологическое развитие, то, что ей не по силам? Триста сортов колбасы в супермаркете? Почему? Какие законы физического мира могут воспрепятствовать этому? Не запланировано? Но при чем здесь планирование? Это всего лишь инструмент, к которому немаловажным приложением должна быть голова на плечах. Люди старшего поколения хорошо помнят, как трудно у нас в торговле продавцы переходили на электронные счетные устройства, полагаясь больше на «надежный» инструмент в виде «счет» - примитивного устройства в виде рамки и подвижных костяшек на спицах. Продавщица, виртуозными движениями пальцев покидав костяшки вправо-влево, озвучивала сумму, за таинством происхождения которой редкий покупатель готов был уследить. Так и партийная бюрократия, державшая в руках все рычаги реальной власти, командным рыком «решавшая» все вопросы, не желала делить своих полномочий ни с какими компьютерами и управляющими системами, звериным нутром чуя угрозу своим привилегиям в «буржуазной» кибернетике и прочей непонятной зауми, теснившими непосильными карьерными трудами «заработанное» право царствовать и повелевать.
В нетоварной экономике отсутствуют не только финансовые расчеты, но и все связанные с ними показатели. Отсутствуют понятия прибыльности, рентабельности, кредита, учетных ставок и прочие специфические атрибуты товарной экономики, построенной на мене, на торге, на частной выгоде. Но это не означает исчезновение стоимости, как меры трудозатрат. Как отметил К. Маркс: «Величина стоимости измеряется количеством содержащегося в ней труда», следовательно, имеет природу физической величины, выражаемой человеко-часами. Поэтому, анализ рациональности, того или иного народно-хозяйственного решения в нерыночной экономике исходит из соображений экономии рабочего времени, а не из овеществляющих частную заинтересованность монетаристских побуждений.
Каковы же экономические преимущества нетоварной экономики в сравнении с рыночной? Насколько они бесспорны и очевидны? В чем принципиальное различие подходов? Прежде всего, капиталистическое производство ориентировано на получение прибыли собственником, на удовлетворение платежеспособного спроса, в то время как плановая экономика имеют целью удовлетворение потребностей всех членов общества в равной степени. Поскольку общественные потребности известны и легко прогнозируемы, то задача производства продуктов жизнеобеспечения переходит в плоскость чисто технологических решений, не нуждающихся в какой-либо рыночной «самоорганизации». Это преимущество Разума над слепыми силами Стихии. Преимущество монополии перед кустарной лавочкой. Преимущество солидарности перед враждебностью. В нетоварной экономике востребован каждый человек, который будет вправе занять любое место сообразно своим способностям и талантам. Планирование позволит снизить нагрузку на экологию, рационально распределить ресурсы и производственные мощности, оптимизировать транспортные потоки. За счет планирования можно обеспечить наиболее полное использования созидательного, творческого, интеллектуального потенциала всего народа, что качественно превосходит возможности узкого слоя «элитариев» в социально стратифицированном обществе.
Рассмотрим с позиций рядового потребителя особенности нетоварной экономики в сравнении с рыночной. Равенство гарантирует каждому бесплатные жилье по единым нормам, коммунальные услуги, образование, здравоохранение, детские продукты и товары, общественный транспорт, отдых, обеспеченную старость. То, что не может быть во владении каждого, равно доступно в общем пользовании. Зачем человеку набор автомобилей на все случаи жизни, которые большую часть времени простаивают в гаражах? Но человек должен иметь возможность взять на прокат любую машину, исходя из своей потребности. Никакого сужения возможностей удовлетворения потребностей в сравнении с существующим не будет. Те же привычные магазины, супермаркеты, компьютерные салоны, боулинги, рестораны и ночные клубы. Расчеты осуществляются только при помощи именных кредитных карточек. Наличных денег в обороте нет. Все начисления на персональные счета производятся единым центром. Бухгалтерии и кассы по месту работы отсутствуют.
Неверно представлять социализм, как общество, где товары хуже, выбор продуктов беднее, но зато есть «социальная защищенность» и «забота о трудящихся». Это полная чушь. Равенство не нуждается ни в какой «заботе» и «защите», поскольку общество не имеет ни неимущих, ни обездоленных, ни бездомных, ни безработных.
Но самое главное преимущество нетоварной экономики – это новый человек, полновластный хозяин своей необъятной Родины, освобожденный от оков наёмного рабства, равный среди равных, живущий яркой, насыщенной, чувственной жизнью в обществе без страха, насилия, зависти и лжи.
Есть ли какие-либо слабые места, изъяны у нетоварной плановой экономики? Да, есть. Это «недостаток» более сложно организованной системы по отношению к примитивной. Это «недостаток» компьютера в сравнении с арифмометром «Феликс». Это «недостаток» цифровых микропроцессорных электронных схем в сравнении с аналоговыми. И с этим придется мириться, как смирились мы со сложностью авиалайнера, всё же предпочитая его простоте и надежности гужевого транспорта...
Сталинградская битва: оборона Сталинграда
17 июля 1942 года на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии (генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин), они оказали упорное сопротивление противнику, которому, чтобы сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними. В конце концов немецкие войска сбили передовые отряды с занимаемых позиций и подошли к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта. Так началась Сталинградская битва.
Сопротивление советских войск заставило нацистское командование усилить 6-ю армию. К 22 июля в ней было уже 18 дивизий, насчитывавших 250 тыс. человек боевого состава, около 740 танков, 7,5 тыс. орудий и миномётов. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолётов. В итоге соотношение сил ещё более увеличилось в пользу противника. Например, в танках он теперь имел двукратное превосходство. Войска Сталинградского фронта к 22 июля имели 16 дивизий (187 тыс. человек, 360 танков, 7,9 тыс. орудий и миномётов, около 340 самолётов).
На рассвете 23 июля в наступление перешла северная, а 25 июля и южная ударные группировки противника. Используя превосходство в силах и господство авиации в воздухе, немцы прорвали оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу дня 24 июля вышли к Дону в районе Голубинского. В результате до трёх советских дивизий попали в окружение. Противнику также удалось потеснить войска правого фланга 64-й армии. Для войск Сталинградского фронта сложилась критическая обстановка. Оба фланга 62-й армии оказались глубоко охваченными противником, а выход его к Дону создал реальную угрозу прорыва нацистских войск к Сталинграду.
К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия обороны протянулась на сотни километров с севера на юг вдоль Дона. Чтобы пробить оборону вдоль реки, немцам пришлось использовать помимо своей 2-й армии, армии своих итальянских, венгерских и румынских союзников. 6-я армия была всего лишь в нескольких десятках километров от Сталинграда, и 4-я танковая, находясь на юге от него, повернула на север, чтобы помочь взять город. Южнее группа армий «Юг» (А) продолжала углубляться дальше на Кавказ, но её наступление замедлилось. Группа армий «Юг» А была слишком далеко на юге и не могла обеспечить поддержку группе армий «Юг» Б на севере.
28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить сопротивление и во что бы то ни стало остановить наступление противника. Предусматривались самые жёсткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и малодушие. Намечались практические меры по укреплению морально-боевого духа и дисциплины в войсках. «Пора кончать отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» В этом лозунге воплощалась сущность приказа № 227. Командирам и политработникам ставилась задача довести до сознания каждого воина требования этого приказа.
Упорное сопротивление советских войск вынудило нацистское командование 31 июля повернуть с Кавказского направления на Сталинград 4-ю танковую армию (генерал-полковник Г. Гот). 2 августа её передовые части подошли к Котельниковскому. В этой связи создалась прямая угроза прорыва противника к городу с юго-запада. Развернулись бои на юго-западных подступах к нему. Для укрепления обороны Сталинграда по решению командующего фронтом на южном фасе внешнего оборонительного обвода была развёрнута 57-я армия. В состав Сталинградского фронта передавалась 51-я армия (генерал-майор Т. К. Коломиец, с 7 октября — генерал-майор Н. И. Труфанов).
Тяжелой была обстановка в полосе 62-й армии. 7—9 августа противник оттеснил её войска за реку Дон, а четыре дивизии окружил западнее Калача. Советские воины вели бои в окружении до 14 августа, а затем мелкими группами стали пробиваться из окружения. Подошедшие из Резерва Ставки три дивизии 1-й гвардейской армии (генерал-майор К. С. Москаленко, с 28 сентября — генерал-майор И. М. Чистяков) нанесли по вражеским войскам контрудар и остановили их дальнейшее продвижение.
Таким образом, план немцев — стремительным ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был сорван упорным сопротивлением советских войск в большой излучине Дона и их активной обороной на юго-западных подступах к городу. За три недели наступления противник смог продвинуться лишь на 60—80 км. Исходя из оценки обстановки нацистское командование внесло в свой план существенные коррективы.
19 августа нацистские войска возобновили наступление, нанеся удары в общем направлении на Сталинград. 22 августа 6-я немецкая армия форсировала Дон и захватила на его восточном берегу, в районе Песковатки, плацдарм шириной 45 км, на котором сосредоточилось шесть дивизий. 23 августа 14-й танковый корпус противника прорвался к Волге севернее Сталинграда, в районе посёлка Рынок, и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. Накануне вражеская авиация нанесла массированный удар по Сталинграду с воздуха, совершив около 2 тыс. самолёто-вылетов. В результате город подвергся страшным разрушениям — целые кварталы были превращены в руины или же попросту стёрты с лица земли.
13 сентября противник перешёл в наступление по всему фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах которого завязались ожесточённые бои.
В конце августа и сентябре советские войска провели ряд контрударов в юго-западном направлении для отсечения соединений 14-го танкового корпуса противника, прорвавшегося к Волге. При нанесении контрударов советские войска должны были закрыть прорыв немцев на участке станции Котлубань, Россошка и ликвидировать так называемый «сухопутный мост». Ценой громадных потерь советские войска сумели продвинуться только на несколько километров.
Cоветские автоматчики во время уличных боев на окраине Сталинграда.
Захваченные верблюды используются германской армией в Сталинграде в качестве тягловой силы.
Эвакуация яслей и детских садов из Сталинграда.
Немецкий пикирующий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 «Штука» (Ju.87 Stuka) в небе над Сталинградом.
Румынские военнопленные, взятые в плен в районе станицы Распопинской под городом Калачом.
Бойцы и командиры 298-й стрелковой дивизии под Сталинградом.
Женщины роют окопы в районе реки Дон.
Ополченец из числа рабочих сталинградского завода «Красный Октябрь», снайпер Петр Алексеевич Гончаров (1903 — 1944), вооруженный именной снайперской винтовкой СВТ-40 на огневой позиции под Сталинградом. В боях за Сталинград уничтожил около 50 солдат противника.
Бронекатера Волжской флотилии ведут огонь по позициям немецких войск в Сталинграде.
Бронетранспортеры вермахта в степи под Сталинградом.
Водитель производит работы на двигателе автомобиля ЗИС-5 под Сталинградом.
Кинооператор Валентин Орлянкин снимает с борта катера панораму Сталинграда.
Жительница Сталинграда топит печь разрушенного дома в оккупированной южной части города.
Советские саперы строят переправу через Волгу.
Источник: Канал «Прекрасное далёко»
Иж Лидер. Неизвестный советский мотоцикл c роторным двигателем
Времена Советского Союза, это было время множества открытий и большого количества экспериментов в области автомобиле и мостостроения. Тогда было обычным делом заняться проектом какой-то новой модели и не довести ее до конвейера, оставив в единичных экземплярах.
Встречались такие примеры и у Ижевского мотозавода, который в 80 годах получил задание от правительства, сделать мотоцикл для сопровождения первых лиц государства. Моделей таких мотоциклов было сделано две, мы сегодня обсудим одну из них. Мотоцикл получил название Иж Лидер и нужно сказать, что спроектирован он был по всем канонам зарубежной техники, внешность мотоцикла нам об этом открыто говорила.
На Лидер было установлено множество пластиковых панелей обтекателей, которые хорошо защищали мотоциклиста от осадков. Изюминкой мотоцикла стал двигатель, который здесь был роторно-поршневым и имел жидкостное охлаждение. Объем такого мотора составлял 613 кубических сантиметров, а мощность 52 лошадиные силы, это при 6000 оборотах в минуту. Привод на заднее колесо идет с помощью карданного вала, спереди и сзади на мотоцикле стоят дисковые тормоза.
По задумке инженеров, мотоцикл должен был распространится не только среди советских служб, но и экспортироваться за границу, где тоже получить признание и востребованность. Но всего было сделано два экземпляра, а точная причина нежелания выпускать данный мотоцикл серийно, неизвестна. В любом случае, у специалистов получился хороший, непохожий на другую отечественную продукцию мотоцикл, который заслуживает внимания.
Государству срочно нужны технари, но рыночек порешал иначе
Когда в конце концов дошла речь до меня, я сказал примерно следующее:
«Дорогие друзья, система образования в нашей стране — производная от экономической системы. И если за пределами школы всем управляет барыга, трудно ожидать, что в школе или вузе поселятся ангелы с крыльями. С другой стороны, от личности министра даже в самой безнадёжной ситуации зависит многое. Поскольку изменить экономический уклад в стране на сегодняшнем заседании никак не возможно, считаю целесообразным призвать министра Ливанова взять самоотвод. Возможно, этот пример окажется заразительным и для остального правительства. Что же касается системы образования в целом, то...
...предлагаю, раз уж у нас не получается воспитать «всесторонне развитую личность XXI века», вернуть советскую школу и в ней по старинке выращивать личностей века ХХ.
В конце концов, эти личности были не так уж и безнадёжны.
Кое-чего они всё же сумели добиться»
(ц) Константин Сёмин - "Болонки" Болонской системы образования, 3 февраля 2015г.
Госплан – железный обруч советской экономики
В своё время именно Госплан сыграл самую решающую роль в восстановлении разрушенной после гражданской войны страны, без него вряд ли удалось бы провести широкомасштабную индустриализацию 30-х годов.
Изначально Госплан СССР представлял собой «фабрику мысли», где работали всего 40 экономистов, инженеров и других специалистов. Они координировали планы союзных республик и вырабатывали общий план для всей страны. С 1925 года Госплан СССР начал формировать годовые планы развития народного хозяйства СССР, которые назывались «контрольные цифры».
В распоряжении Госплана находились абсолютно все данные о том, сколько и что произвели и добыли по всей стране, какие потребности у населения, промышленности, армии и т. д.
Ответ на пост «Манифест Компартии»2
Вот некоторые всё ждут нового Ленина, другие – нового Сталина...
Фото на лобовом стекле дальнобойщика из Грузии:
Прошлое есть прошлое. Хочешь увидеть реальных героев – посмотри вокруг!
– писал Мао Цзедун*.
Кем был Сталин? Сталин был, прежде всего, рабочим лидером, профсоюзником, под руководством которого, например, победила бакинская стачка 1904 года и был заключён первый в России коллективный договор. Сталин руководил вооружённым восстанием 105 лет назад, которое передало власть съезду Советов.
Советы же были органами диктатуры пролетариата, поскольку избирались по трудовым коллективам, с возможностью отзыва и заменимы депутата в любой момент.
* – 俱往矣,数风流人物,还看今朝。Из стихотворения "Циньюаньчунь / Снег", 1936 год.