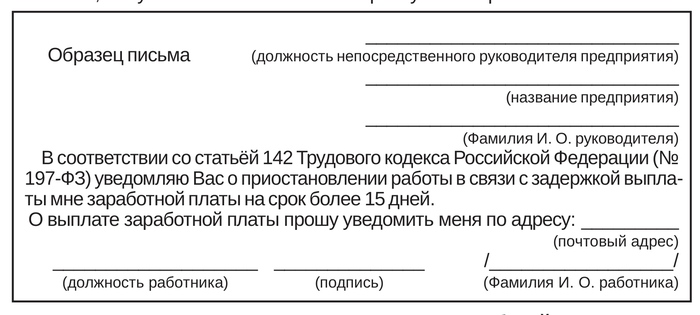Социализм и государство
Скажу сразу – ни на научную новизну, ни на политическую актуальность автор не претендует. Лет сорок назад статью можно было бы озаглавить «Банальные истины», поскольку вопросы государства и его отмирания при коммунизме были весьма основательно исследованы и разработаны основоположниками марксизма-ленинизма и никем не подвергались сомнению. Однако, прошло время, радикально изменились исторические обстоятельства, выросли целые поколения, воспитанные на противоположных идеях и концепциях, так что внести ясность в эту тему стало уже настоятельно необходимо.
Удивительно, но коммунистов, которые утверждают о неизбежном отмирании государства, почему-то причисляют к «государственникам», «державникам», сторонникам твердой власти в противоположность либералам, которые, казалось бы, выступают против засилья государства и всяческого ограничения «гражданских прав и свобод». Как же так? Откуда такая путаница?
Любая аналитика должна включать в себя ясные и однозначные определения понятий, предметов исследований, их взаимосвязей. В противном случае полемизировать бессмысленно, так как доводы, исходящие из разных представлений, не будут пересекаться, складываться в единую картину, а выводы могут оказаться диаметрально противоположными. Так что, самое время начать с определений.
Что такое государство? Резюмируя положения Энгельса из его работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ленин заключает: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы.»
Далее Ленин сравнивает позицию Энгельса и буржуазных идеологов: «С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, — вынужденные под давлением бесспорных исторических фактов признать, что государство есть только там, где есть классовые противоречия и классовая борьба, — «подправляют» Маркса таким образом, что государство выходит органом примирения классов. По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выходит, — сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса! — что государство как раз примиряет классы. По Марксу, государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных политиков, порядок есть именно примирение классов, а не угнетение одного класса другим; умерять столкновение — значит примирять, а не отнимать у угнетённых классов определённые средства и способы борьбы за свержение угнетателей.»
Таким образом, буржуазия считает государство средством «классового примирения», в то время как марксизм определяет государство орудием классовой диктатуры и гнета. Такая противоположность подходов объясняется заинтересованностью буржуазии, крупного капитала и финансовой олигархии в сохранении своего классового господства, в желании придать своей диктатуре видимость «классовой гармонии», обеспечения «баланса интересов», а государству приписать «надклассовый», нейтральный характер.
Что же такое социализм? Это новая общественно-экономическая формация, основанная на общем владении всеми средствами производства. В результате упразднения института частной собственности, а, следовательно, товарно-денежных отношений, все средства производства интегрируются в единый плановый народнохозяйственный комплекс с равенством труда и равенством платы. Никто не может получать никаких привилегий и дополнительных благ от своего места в системе общественного разделения труда. Общество становится бесклассовым, относительно однородным. Социализм – это уже коммунизм, его первая, низшая фаза, в которой еще сохраняются некоторые предрассудки и пережитки буржуазного общества в общественном сознании и социальном срезе.
Но если государство есть следствие классового разделения общества, то каким бы оно ни было – «примирения» или «диктатуры», в бесклассовом обществе ему делать уже нечего. Нет классов – некого «примирять» или подавлять. Таковы общие положения теории о государстве, от которых и требуется перекинуть мостки к практике государственного строительства при социализме.
После завоевания политической власти, устранив обломки буржуазной диктатуры, пролетариат устанавливает свою диктатуру. Диктатура пролетариата – это власть подавляющего большинства трудового народа по отношению к ничтожному меньшинству бывших собственников, социальных паразитов и прочего деклассированного элемента. Уже на этом этапе репрессивный характер государства уменьшается на порядок. Ведь, одно дело подавлять многомиллионные массы народа и порожденную социальными проблемами преступность в буржуазном обществе и другое дело – ликвидировав социальные предпосылки преступности, обеспечив всех работой и достойным существованием, бороться с рецидивами преступности в социалистическом обществе. Т. е. уже на этапе диктатуры пролетариата, несмотря на столь «страшное» звучание, роль государства как орудия классового господства радикально снижается.
В советском обществе определение «государственный» прилагалось ко всем формам общественной собственности, что было не вполне правильно. Объяснялось это тем, что социалистическое государство является общенародным и уже бесклассовым по сути, поэтому определение «государственный» тождественно «общественному». К «государственным» причислялись все предприятия, фабрики, заводы, учебные и медицинские учреждения, жилищный фонд, земли, леса, недра и т. д. Возникает вопрос, если «отмирает» государство, то в чье ведение тогда переходит вся государственная собственность? Очевидно ведь, что все средства производства, вся движимость и недвижимость остаются на своих местах и никак не отмирают вслед за государством.
Никакой неопределенности не будет, если согласиться с тем, что при социализме вся собственность является общественным достоянием, не имеющей отношения к государству, как орудию классовой диктатуры. Да и Маркс писал об обобществлении средств производства, а не о переводе их в государственную собственность. Общество поручает социалистическому государству управление общественным производством и общество же полностью контролирует государство. Из силы стоящей над обществом государство становится средством управления народным хозяйством в руках общества.
Но пока в мире существуют враждебные социализму силы, существует империализм, классовый гнет и порабощение, то государство при социализме отмирать не будет, хотя его силовая составляющая направлена на защиту общества от посягательств извне. И даже при коммунизме, отмирая «внутри», мощное государство остается «снаружи», охлаждая пыл и умеряя аппетиты мировых империалистических стервятников. Только после победы коммунизма в мировом масштабе, после объединения человечества в единый Советский Союз, национальные государства прекратят свое существование, не утратив, разумеется, свой этнический колорит, язык и культурно-исторические особенности.
Но как быть с управлением, которое вряд ли может осуществляться путем опросов и голосований по любому поводу? Кто будет вырабатывать стратегию развития, решать вопросы оперативного характера? Ленин писал:
«С того момента, когда все члены общества или хотя бы громадное большинство их сами научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, «наладили» контроль за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, — с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще. Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда она становится ненужной. Чем демократичнее «государство», состоящее из вооруженных рабочих и являющееся «уже не государством в собственном смысле слова», тем быстрее начинает отмирать всякое государство».
Чтобы понять мысль об исчезновении надобности в управлении, обратимся к аналогии – сравним общество с человеком. Задумывается ли человек в своей практической деятельности о частоте дыхания, управляет ли он сердечной активностью, желудочно-кишечным трактом, лимфатической системой? Нет. Все эти физиологические процессы контролируются соответствующими органами, освобождая человек от подобной рутины. Он может целиком сосредоточиться на решении внешних задач, будучи уверенным, что все «оперативные» вопросы обеспечения его жизнедеятельности разрешатся «сами собой» наилучшим образом. Примерно так же обстоят дела и в любой достаточно сложной технической системе. Функции управления периферийными устройствами возлагаются на специализированные вычислительные устройства — контроллеры, так же освобождающие центральный процессор от «забот» по управлению аппаратной частью периферии. В свою очередь, такая система может быть составной частью системы более высокого уровня, также освобождая её от необходимости управления на нижних, локальных уровнях «компетенции». И нет никаких теоретических ограничений к размерам подобной системы, которые могут варьировать от стиральной машины до глобальной сети Интернета, от простейшего калькулятора до мировой экономики, интегрированной в единый плановый народнохозяйственный комплекс.
Как практически в социалистическом народном хозяйстве устраняются неопределенности, связанные с управлением? Какие локальные задачи не требуют централизованного вмешательства и могут решаться автономно на местном уровне? Что остается «центру»? Нужно ли центру планировать производство пирожков в заводской столовой? Нет, центр лишь контролирует единство социального и экономического пространства, соблюдение принципа равенства в отношении к каждому члену общества, осуществляет координацию технологических процессов в масштабах всей страны. Локальные производственные циклы замкнуты «на себя» и не нуждаются во внешнем управлении.
Что остается, если отпадает нужда в рутине управления? Выработка целей, определение стратегии развития человечества на десятилетия и столетия вперед. Не «прогнозирование» «экономического роста», а практическое, целенаправленное развитие человеческой цивилизации, экспансия во внешние миры, а в дальней перспективе — и распространение жизни в масштабах всей Галактики. Разумеется, такая задача по силам лишь объединенному, мировому коммунистическому обществу.