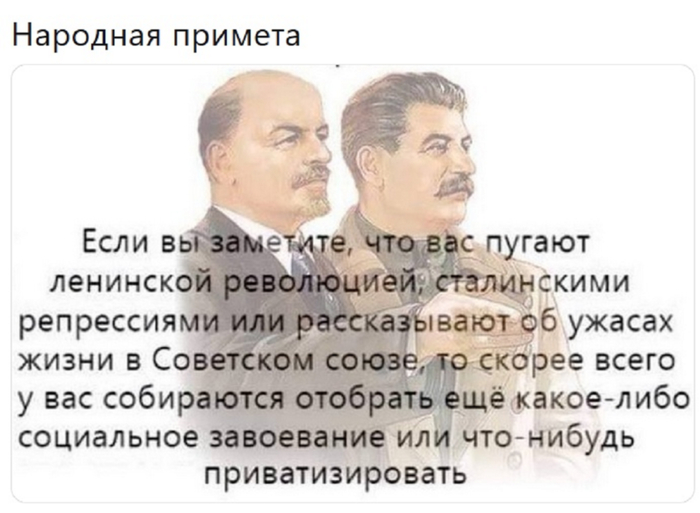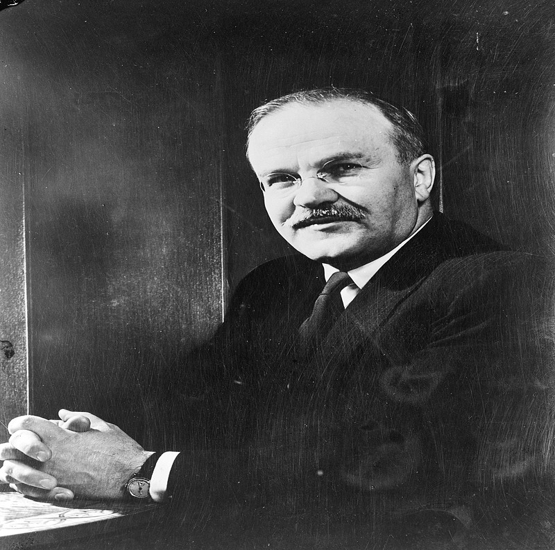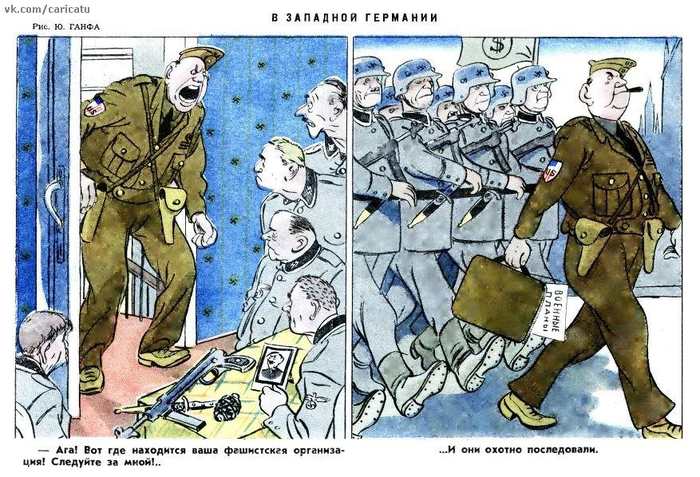Цутому Ямагути
Цутому Ямагути (16 марта 1916 – 4 января 2010), инженер-судостроитель компании Mitsubishi Heavy Industries, вошел в историю как единственный официально признанный правительством Японии человек, переживший атомные бомбардировки обоих городов – Хиросимы и Нагасаки. Его биография – не просто история невероятного физического выживания, но и трагический символ судьбы простого труженика, брошенного в жернова милитаристской авантюры японского империализма и ставшего жертвой нового оружия устрашения американского империализма. Выходец из рабочей семьи Нагасаки, Ямагути с 1930-х годов трудился чертежником на верфях концерна Mitsubishi – одного из столпов военно-промышленного комплекса Японии, ковавшего орудия агрессивной войны. Его скромная должность проектировщика нефтяных танкеров была частью гигантской машины, обслуживавшей захватнические амбиции правящей клики. В августе 1945 года он находился в командировке в Хиросиме – городе-арсенале, где располагались штабы и военные заводы. 6 августа в 8:15 утра, когда Ямагути направлялся на работу и находился всего в 3 км от эпицентра, взорвалась урановая бомба «Малыш». Чудовищная ударная волна выбила стекла, обрушила здания, а ослепительная вспышка вызвала ожоги левой половины его тела, временно лишила слуха на левое ухо и позже привела к выпадению волос. Оглушенный, с обожженной кожей, он сумел добраться до полуразрушенного бомбоубежища, где провел ночь среди стонов умирающих и руин. Несмотря на тяжелые травмы, 7 августа Ямагути, как верный служащий корпорации, вынужден был вернуться в родной Нагасаки – не столько за медицинской помощью (которая была хаотичной и неадекватной), сколько для доклада руководству Mitsubishi о катастрофе в Хиросиме и продолжения работы. 9 августа, около 11:00 утра, когда он в кабинете управляющего верфью рассказывал о пережитом в Хиросиме, над городом взорвался плутониевый «Толстяк». На этот раз он находился примерно в 3 км от эпицентра. Вновь его накрыла ударная волна, вновь он получил ожоги и травмы – став жертвой второго атомного ада всего за три дня. Его выживание в обеих бомбардировках – результат сочетания случайности, выносливости организма и, возможно, специфики расположения в момент взрывов, но это не умаляет пережитого им кошмара. Послевоенная судьба Ямагути типична для тысяч «хибакуся» (людей, подвергшихся воздействию взрыва) – отвергнутых обществом, страдающих от последствий радиации и брошенных государством, которое развязало войну. Несмотря на развивавшиеся десятилетиями лучевую болезнь, катаракту, хроническую слабость и риск рака, он был вынужден продолжать работать на Mitsubishi Heavy Industries, которая, как и другие дзайбацу, быстро восстановилась под покровительством американской оккупации. Лишь в преклонном возрасте, осознав масштаб трагедии и системное пренебрежение к жертвам со стороны властей и корпораций, Ямагути стал публичным борцом. Он выступал с рассказами о пережитом, требуя запрета ядерного оружия и признания прав хибакуся. Его борьба увенчалась лишь частичным успехом: в марте 2009 года, спустя 64 года после бомбардировок, японское правительство официально признало его уникальный статус «нидзю хибакуся» (дважды пережившего атомную бомбардировку). Личная трагедия семьи Ямагути отражает долговременные последствия радиации для простых людей. Его жена Хисако, находившаяся в Нагасаки 9 августа (хотя и дальше от эпицентра), умерла в 2008 году от рака печени и почек, прямо связанного с облучением. Сам Цутому Ямагути, несмотря на относительное физическое долголетие, всю жизнь боролся с последствиями облучения и умер 4 января 2010 года от рака желудка – болезни, часто поражающей хибакуся. Жизненный путь Цутому Ямагути – это не только символ человеческой стойкости, но и обвинительный акт. Он – живое напоминание о том, как трудящиеся массы становятся первыми и главными жертвами войн, развязанных империалистическими державами, и как созданное ими оружие массового уничтожения калечит жизни поколений, в то время как виновники остаются безнаказанными, а военно-промышленные комплексы процветают. Его история – вечный укор милитаризму и гонке ядерных вооружений.