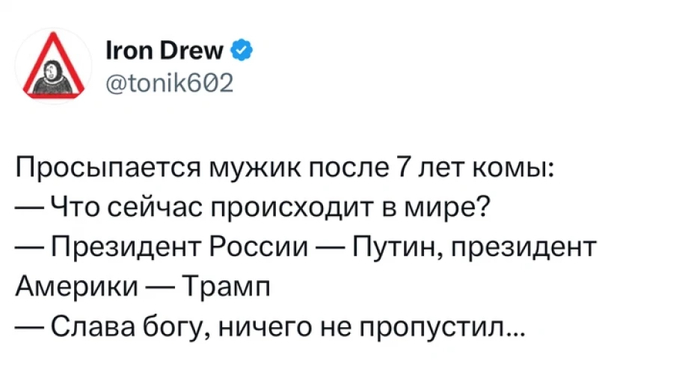Сначала он списал это на усталость.
Фигура стояла в дальнем конце дорожки, там, где асфальт сменялся разбитой плиткой, а фонарный свет расплывался в липком августовском мареве. Высокая, худая, в выцветшем синем костюме - таком же, в каком его школьный физрук когда-то повесился в подсобке. Сергею вдруг вспомнилось, как они с ребятами нашли того учителя: язык синий, глаза вылезли, а в кармане - записка с одним словом "Довольно".
Он моргнул, пытаясь стряхнуть воспоминание. Фигура не шевелилась. Кепка надвинута на глаза, но под ней - не лицо, а пустота, глубокая, как та яма во дворе, куда он упал в семь лет. Мать тогда кричала на него: "Бестолочь! Тебе же сборная через неделю!" А отец молча перевязывал ссадину, и в его глазах читалось разочарование - первое из многих.
Сергей почувствовал, как по спине побежали мурашки.
"Кто там?" - голос звучал чужим, детским, каким он был в тот день, когда увидел мать лежащей на кухонном полу.
Он сделал шаг вперед, и в этот момент из динамиков донесся скрипучий голос диктора - тот самый, что объявлял о смерти Брежнева по школьному радио:
"Гражданин Малинин Сергей Викторович, 1968 года рождения..."
Сергей резко обернулся. Динамики молчали. Но когда он снова посмотрел вперед, фигура исчезла. Остался только след на асфальте - мокрый, как слезы, катившиеся по его лицу на похоронах матери.
Вечером, когда стадион опустел, оно вернулось. Сергей стоял перед зеркалом в раздевалке. Вода из крана текла ржавыми каплями, пахнущими так же, как вода в той больничной палате, где умирала мать. Он плеснул себе в лицо, и вдруг - запах. Не просто больничный, а конкретный. Тот самый. Смесь йода, хлорки и чего-то сладковато-гнилого, что витало в палате в последние часы. Он замер. В зеркале, за его спиной, на скамейке сидела тень. Та самая. Синий костюм. Кепка.
И теперь он видел - она дышала. Грудь поднималась и опускалась в том же ритме, что и грудь матери в последние минуты - прерывисто, с хриплым присвистом, будто внутри работал старый, разболтанный насос.
Сергей резко обернулся. Никого. Но скамья была теплой, как та больничная койка, на которой он сидел, держа мать за руку и чувствуя, как жизнь уходит из ее пальцев. А потом пришли голоса. Сначала - шепот, прямо в ухо, теплый и липкий, как дыхание отца в запое:
Потом - со всех сторон, как тогда, на соревнованиях, когда он упал и сломал руку, а ребята смеялись:
"Они уже тебя списали..."
Голоса накладывались друг на друга, превращаясь в какофонию всех его страхов и провалов. Сергей схватился за голову:
"Заткнитесь!" - и выбежал из раздевалки на улицу.
Эхо прокатилось по пустому стадиону, смешиваясь со скрипом качелей на детской площадке - таких же, на каких он качался в тот день, когда прибежал домой и нашел мать на полу. Тишина. Только ветер гнал по дорожке обертку от "Мишка Косолапый" - той самой конфеты, что лежала в кармане его спортивного костюма в день похорон. Бумажка шуршала, будто чьи-то пальцы скребут по асфальту, и Сергею вдруг показалось, что это звук капельницы, подвешенной над больничной койкой. Его койкой. Но нет, он же здесь. На стадионе. Или нет?
Он сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони - так же, как в тот день, когда стоял у гроба и не мог заплакать. Он побежал. Бежал, как тогда, в детстве, когда после похорон выбежал из дома и носился по двору, пока не упал без сил. Но теперь бег не помогал. Тень была везде. В каждом повороте дорожки. В каждом отражении. В каждом воспоминании. И самое страшное - она была им самим. Тем, кем он стал. Тем, кем боялся стать. Тем, кем, возможно, уже был.
****************************
Колесников больше не кричал. Он просто стоял на краю поля, руки глубоко засунуты в карманы ветхой ветровки, которую носил еще с тех пор, когда Сергей впервые пришел в секцию. Тренер смотрел на него. Не так, как раньше - зло, требовательно, с той особой яростью, от которой раньше у него подкашивались ноги. Нет. Теперь его взгляд был пустым. Как у той куклы, что валялась на помойке за их домом - один глаз выбит, второй стеклянный, немигающий.
— Тренер?.. — голос Сергея предательски дрогнул, став вдруг тонким, как в четырнадцать лет, когда Колесников впервые назвал его "бесперспективным".
Тот не ответил. Только губы шевельнулись, выдавливая слова, будто старый магнитофон на последних оборотах:
— Норматив… не выполнил… списывать…
Никого. Но на сыром асфальте отчетливо виднелись следы - два темных отпечатка, мокрых, как будто кто-то стоял здесь в больничных бахилах. Таких же, в каких ходили санитары в психоневрологическом диспансере, куда однажды забрали отца.
Дома было еще хуже. Сергей проснулся среди ночи от звука, который знал слишком хорошо - скрип стула на кухне. Того самого, на котором сидела мать, когда у нее случился удар. Он лежал, не дыша, слушая, как в темноте что-то передвигается.
— Мама?.. — выдохнул он, и в этот момент по спине пробежал ледяной пот - именно так он звал ее тогда, в тот вечер, когда нашел на полу кухни.
Тишина. Потом - шаг. Тяжелый, будто кто-то волочит ногу. Еще шаг. Ближе. Холодные пальцы коснулись его лба - точь-в-точь как пальцы врача в морге, когда тот закрывал глаза его матери. Сергей взвыл, рванулся к выключателю. Яркий свет на миг ослепил его.
Но на полу, прямо перед кроватью, лежала фотография. Он узнал ее сразу - та самая, с потертыми уголками, что всегда стояла на мамином комоде. 1982 год. Он, отец и мать в парке у фонтана. Все улыбаются. Отец еще не спился окончательно. Мать еще не знает, что через месяц ее мозг взорвется тромбом. Он, четырнадцатилетний, еще верит, что станет чемпионом.
Сергей схватил фотографию, и вдруг его пальцы нащупали что-то на обратной стороне. Надпись, сделанная маминой рукой:
"Мой чемпион. 12.08.1982"
Дата за день до того самого дня, когда он сломал руку на соревнованиях. Когда отец впервые назвал его "рохлей". Когда мать всю ночь плакала в кухне.
Сергей разрыдался. Не тихо, не сдерживаясь - взахлеб, как тогда, когда прятался в чулане, чтобы никто не видел его слез. А где-то в темноте оно зашевелилось снова. И на этот раз было ближе. Гораздо ближе.
****************************
Кроссовки впивались дорожку, но Сергей больше не чувствовал ударов о покрытие. Его тело двигалось на автомате, заученные движения, отточенные тысячами тренировок. Сегодня он должен был пробежать. Не ради норматива. Не ради тренера. Ради того, чтобы доказать себе, что он еще жив.
Выстрел стартового пистолета прозвучал глухо, будто из-под воды.
Рывок.
Первые метры — мышцы горят, легкие рвутся на части.
Потом — дорожка изменилась. Она уходила не вперед, а вниз, превращаясь в длинный, темный тоннель. По краям — облупившиеся плакаты "Спорт — здоровье миллионов!" и "К новым победам в труде и спорте!", которые он помнил еще с детства. Те самые, что висели в зале, где учитель физкультуры однажды сказал: "Из тебя, Малинин, ничего не выйдет".
А в конце тоннеля — Оно. Тот самый силуэт в синем костюме. Только теперь Сергей видел его лицо. Это был он сам. Но не сегодняшний. Тот, каким он мог бы стать. Глаза — мутные, запавшие. Кожа — серая, обвисшая. На руках — пролежни, как у деда в доме престарелых, куда они с отцом приезжали раз в год.
— Ты уже мёртв, — прошептал двойник, и голос его звучал точно так же, как голос отца в тот день, когда он сказал Сергею: "Ты — неудачник. Как и я".
Сергей закричал. Не просто крикнул — взвыл, как тогда, в четырнадцать, когда пришел на тренировку со сросшейся рукой, а тренер хотел прогнать его за "отсутствие перспектив".
И мир вокруг затрещал. Стены стадиона поплыли, как тогда плыли перед глазами слезы, когда он сидел в раздевалке один, сжимая в руках мамин портрет. Воздух внезапно стал густым, как сироп, наполняясь знакомыми звуками - теми самыми, что преследовали его в кошмарах последние... сколько там? Дни? Месяцы? Годы? Гудки аппаратов прорезали сознание, как иглы. Монотонный писк кардиографа, прерывистое шипение кислородного аппарата, мерное постукивание капельницы - все слилось в одну пронзительную симфонию медицинского оборудования.
— Давление падает... — голос медсестры, той самой, что когда-то делала ему перевязку в школьном медпункте.
— Реакции нет... — сухая констатация врача, звучавшая точь-в-точь как вердикт тренера: "Медицинских показаний нет, просто неспособен".
— Сколько он уже в коме? — и этот вопрос, заданный шепотом, вернул его в тот день, когда мать, стиснув зубы, спрашивала у отца: "Сколько он еще будет валяться дома? У других дети как дети, а наш..."
Сергей понял. Ледяное озарение пронзило сознание Тот роковой день всплывал обрывками:
Последний рывок на тренировке ("Догони их, Серега! Ты же можешь!").
Подвернувшаяся нога (как тогда, в четырнадцать, когда он упал на соревнованиях).
Удар виском (точно такой же, как когда его толкнул Витька в школьном туалете).
Крик товарищей: «Скорая!» (точно так же кричали ребята, когда он потерял сознание после кросса в девятом классе)
— Пять лет... — голос из ниоткуда прошелестел, как осенние листья под ногами во дворе, где он в одиночестве отрабатывал старты, пока другие ребята гуляли с девчонками.
Он никогда не вставал. Все эти дни, месяцы, годы - всего лишь игра воспаленного сознания, запертого в темноте.
Пять лет. Пять лет этого бесконечного бега по кругу. Пять лет попыток доказать - кому? Себе? Отцу, который уже три года как спился? Матери, лежащей в холодной земле? Тренеру, который давно забыл его имя?
Сергей зарычал, и этот звук, рвущийся из глубины души, был точной копией того, что вырвался у него в четырнадцать, когда он, рыдая, бил кулаками по подушке после того, как его не взяли на областные соревнования.
Он не позволит этому случиться. Не станет тенью, как отец, превратившийся в молчаливый комок горечи у телевизора. Не станет призраком, как мать, чью смерть на кухне он до сих пор видит в кошмарах. Не станет пустым местом, как все те годы, когда его существование никого не волновало. Он будет бежать. Даже если этот бег - всего лишь последние всплески электричества в умирающем мозге. Даже если дорожка ведет в никуда. Даже если за финишной лентой - только тьма. Потому что остановиться - значит признать, что вся его жизнь, вся его борьба - не значили ничего. А он не может этого допустить. Не после того, как мать, стиснув зубы, вязала ему носки для тренировок вместо новых кроссовок, которые они не могли себе позволить. Не после того, как отец, в редкий момент трезвости, сказал: "Хоть ты не будь лузером, как я".
Он бежит. До конца. Даже если этот конец - лишь: одинокая больничная койка, пахнущая хлоркой и смертью, тихий писк аппаратов, отсчитывающих последние секунды, голос врача, произносящего те же слова, что когда-то тренер: "Все. Точка. Финиш"
И где-то в этой тьме, последнее, что слышит Сергей - собственный голос, тот, каким он был в детстве.