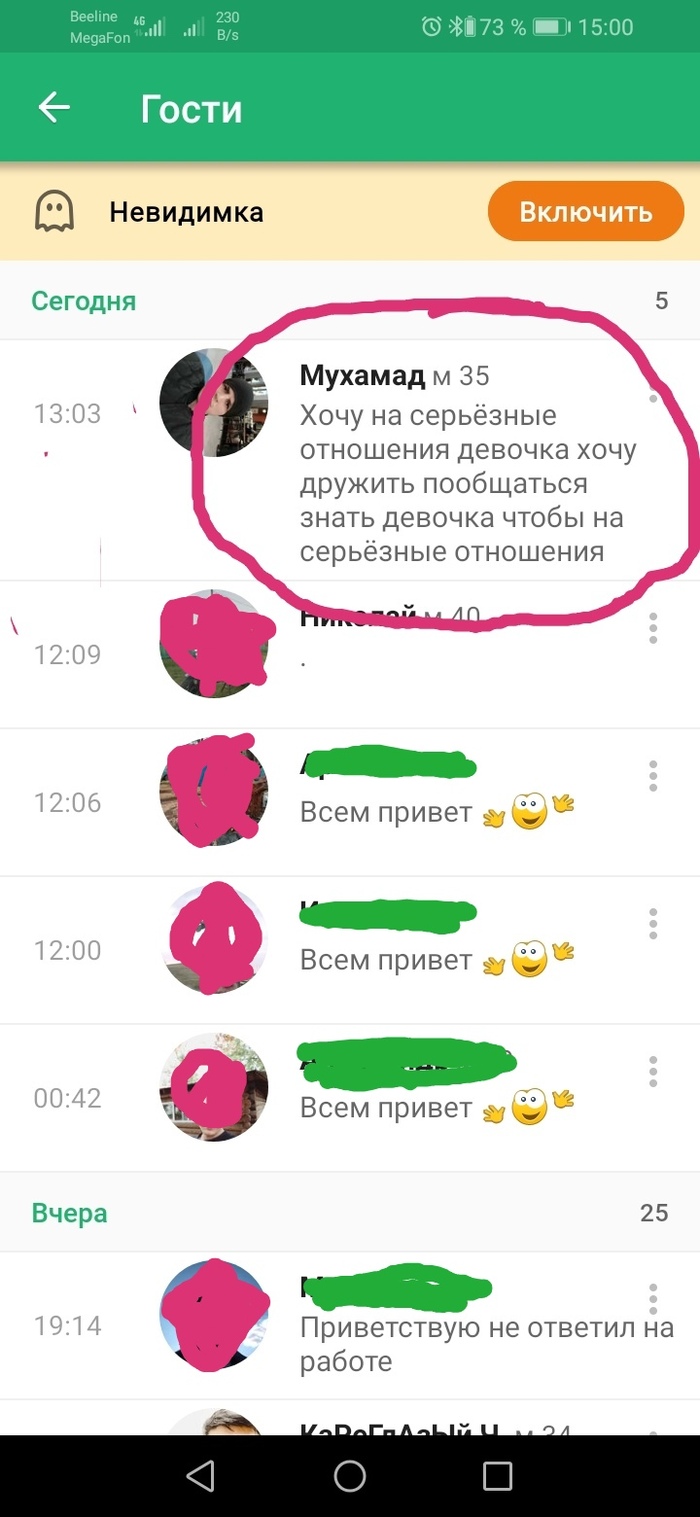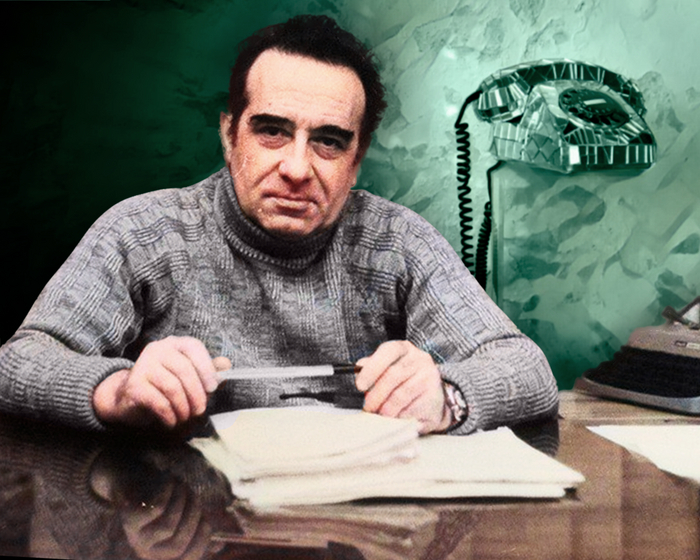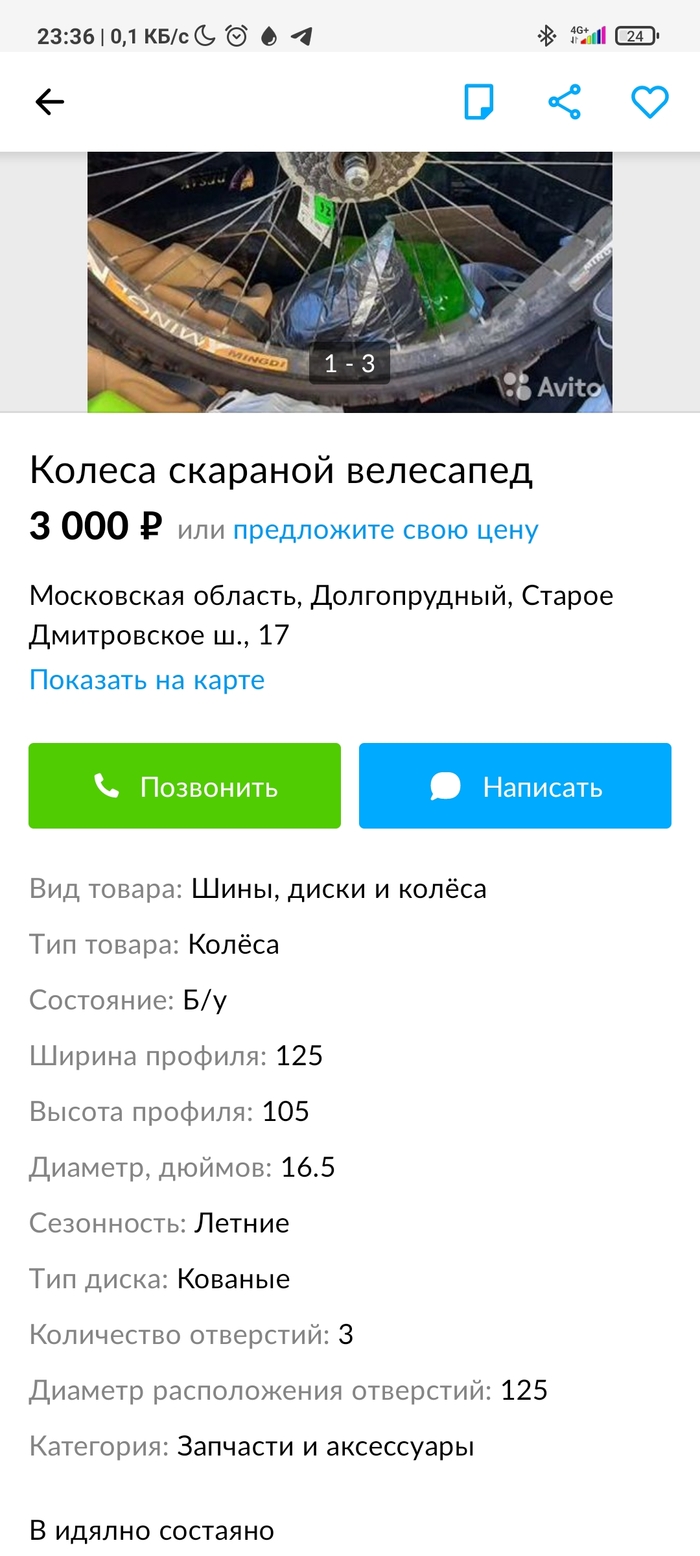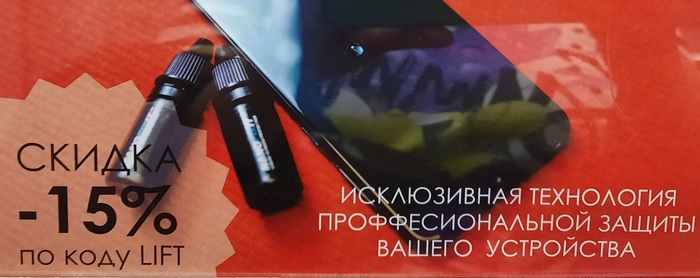Лига грамотности
Ошибки телефонные по Н.Г. Самвеляну
Данная статья относится к Категории: Функционально-стоимостной анализ
«…нынешний мир наполнен телефонами. А говорить по ним зачастую не умеют. Звонят, кричат: «Алло! Кто говорит? Куда я звоню?» Начинаются препирательства, выяснения отношений - бог знает что! Между тем, учить правильному стилю разговора по телефону следовало бы ещё в детском садике, а уж со школьных лет - обязательно.
Позвонил - поздоровайся, назови себя, а затем уже начинай разговор. Особенно если звонишь в частный дом. В этом случае называть себя в самом начале разговора обязательно.
Не называть себя, а тем более уклоняться, если тебя напрямик попросили назвать себя, - хамство и элемент явного телефонного терроризма. В одном городе средней величины, в котором сейчас меньше миллиона жителей, в день раздаётся от 8 до 14 миллионов телефонных звонков. Две трети из них ведутся безграмотно. Так же, впрочем, как везде.
Средняя продолжительность каждого телефонного разговора 4-6 минут. Из-за неумения говорить одна треть разговора пуста и не нужна. Выходит, что прямые потери времени составляют около 20 миллионов минут. А разговаривающих всегда двое. Следовательно, уже не 20, а 40 миллионов минут. Выходит - около 600 000 человеко-часов.
Потеряна энергия, которой хватило бы, чтобы построить такой оперный театр, которым вот уже почти сто лет гордится город. Другими словами, каждый день город теряет прекрасный театр. Пусть подсчёт этот в чем-то неточен, условен, несовершенен. Делал его в свободное от работы время знакомый экономист. Но вдумайтесь, что же это такое: ведь речь идёт о потерях только на телефонных разговорах в городе средней величины, каких на глобусе уже тьма-тьмущая.
Значит, правила разговора по телефону нужно знать, изучать. Следовало бы специальные книги издавать на эту тему. Элементарные учебники. Тут в пору подключиться радио и телевидению, другим средствам массовой информации. Уверен, что с теми же телефонными разговорами положение можно исправить за один-два года. Но дело не только в них.
А сколько теряем мы на некорректности поведения на службе, в транспорте, на улицах, в магазинах. Эти потери обходятся обществу дороже, чем бесхозяйственность в целой промышленной отрасли.
Лихачёв Д.С.: – Неожиданный пример, Николай Григорьевич».
Лихачёв Д.С., Самвелян Н.Г., Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем, М., «Советская Россия», 1988 г., с. 79-80.
Дополнительные материалы
+ Плейлист из 3-х видео: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ из ЭКСПЕРТОВ
+ Ваши дополнительные возможности:
Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию 21 августа 2022 года в 19:59 мск (воскресенье). Это принципиально бесплатный формат.
Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/
Изображения в статье
Никола́й Григо́рьевич Самвеля́н (Ле́син) — советский писатель-прозаик. Известен своими историческими повестями и романами для юношества / Антиквариум & Изображение Peter H с сайта Pixabay
Ответ на пост «Боеприпас и чувство языка»2
За последнее столетие с "чувством языка" у корреспондентов без изменений. Вспомнился рассказ Аркадия Аверченко "Специалист по военному делу". Читайте, наслаждайтесь.
___________________________________________________________________________________________________
Прежний «военный обозреватель» поссорился с редактором и ушел.
Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему:
— Какую вы написали странность: «Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них». Что значит «их в них»?
— Что же тут непонятного? Направляя их в них, — значит, направляя блиндажи в русских?
— Да разве блиндаж можно направлять?
— Отчего же, — пожал плечами военный обозреватель, — ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.
— Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?
— Отчего же... конечно, кто хочет — может выстрелить, а кто не хочет — может не стрелять.
— Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж — нечто вроде пушки?
— Не по-моему это, а по-военному! — вспылил обозреватель. — Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: «Русские стреляли из блиндажей», «немцы стреляли из блиндажей»... Осел только не поймет, что такое блиндаж!
Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся.
— Не знаю, кто из нас осел. Почему же в «Военном Скакуне» обозреватель пишет такую фразу: «немцы прятались в блиндажах». Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли?
— Почему же нет? Если орудие, скажем, восемнадцатидюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правилу воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которое... которое... Э, черт! Взял просто человек и залез в пушку.
— Сел в лужу наш военный обозреватель, — вступил и разговор корреспондент из Копенгагена. — Блиндаж — это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово. Происходит с русинского. Блин даже. Так сказать, даже блин, и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно — галеты. Любят, черти, покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом?
— Пожалуйста, — скривился военный обозреватель. — Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел. А я вам больше не писарь.
Взял он свое пальто, шляпу, два рубля долгу из конторы и ушел.
Редактор привез нового военного обозревателя.
Все сотрудники высыпали смотреть на него. Поглядывали с тайным страхом — вдруг человек возьмет да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обозреватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мортирами и блиндажами.
Но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком.
Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент:
— Какие у вас хорошие ботиночки!
— Да, — самодовольно согласился секретарь. — Почти новые. Второй год всего ношу.
— О чем будете писать нынче? — спросил редактор.
— Об Италии.
— Почему об Италии?
— Да давно хотелось написать. Тем более что она имеет на карте такую забавную форму.
Появилась статья военного обозревателя об Италии.
Она начиналась так:
«Италия имеет форму сапога. Капо-спартивенто — это его носок, Капо-С. Мария — его каблук. Средняя часть подметки образуется из залива Таренто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком, а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то...» и т. д., и т. д.
Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление.
— А о чем вы нынче думаете? — спросил редактор.
— Написать о чем? Думаю написать статью о состоянии обуви во французской армии.
— Разве это такой важный вопрос?
— Обувь-то? Это — все. Обуйте солдата как следует, и он сделает чудеса.
На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя.
Она начиналась словами:
«Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из...» и т. д., и т. д.
Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя:
— Ничего не поделаешь, — специалист.
А вечером спросил:
— А завтра о чем будет?
— Думаю коснуться состояния обуви в австрийской армии.
— Что вы все обувь да обувь? — нервно возразил редактор. — Напишите что-нибудь другое.
— Именно? — пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью.
— Ну... например, напишите о расположении австрийской армии...
— Слушаю-с.
На следующий день появилась статья:
«Расположение австрийской армии».
Начиналась так:
«Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как бы носок, а правый как бы верх ботинка. N-й корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является...» и т. д., и т. д.
Прочтя эту статью, редактор рассвирепел. Долго кричал на военного обозревателя:
— Что вы всюду тычете ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог. Понимаете? Кочерга, а не сапог!
— Извините! — обиженно возразил новый обозреватель. — Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой.
— Но и не сапожник же, — завизжал редактор, — чтобы сравнивать армии с сапогом!
— Извините, — угрюмо прошептал новый обозреватель, — как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я действительно работал подмастерьем у сапожного мастера Василия Хромоногого.
И когда он, получив расчет и собрав свои вещи (пучок дратвы, две колодки и коробку вару), уходил, — в глазах его читался короткий упрек:
«За что? Чем я хуже других?»
Боеприпас и чувство языка2
"В этот дом попал боеприпас" - примерно такую фразу сказал сейчас корреспондент "Россия-24", и нередко подобное пишут и говорят другие корреспонденты.
"Боеприпас" - это, буквально, расходуемый "припас", предназначенный для боя.
То есть, исходя из значения простых слов, составляющих это сложное слово "беприпас", пока ракета, снаряд или патрон, или минометная мина упакованы в ящики, хранятся на складах, перевозятся железнодорожным или автомобильным транспортом - они являются боеприпасами.
А когда они применены - они уже не "припасы" и не "боеприпасы", а соответственно - ракеты. снаряды или патроны, или минометные мины.
То есть, - в дом, упомянутый в первой фразе текста, попал вовсе не боеприпас, а конкретное расходуемое взрывотехническое изделие. Это - снаряд, ракета, минометная мина, авиабомба.
Но уже никак не боеприпас.
Припас - пока припасен.
А когда применен - уже не припас.
Ответ на пост «Про детское восприятие непонятных слов»1
Вот напомнили. Была (давным-давно) такая игровая радиопередача: КОАПП (Комитет Охраны Авторских Прав Природы). В ней разные зверушки друг с другом разговаривали и, промежду взаимоподколок, доносили до своих юных радиослушателей некоторые зачатки новой тогда науки: бионики.
Одним из наиболее симпатичных персонажей там был некто Гепард. И, в одной из передач, из его уст прозвучала такая вот фраза (как я её запомнил):
—На каждого ристика есть своя характеристика.
Тогда я, кажется, подумал нечто в духе: "Вот выросту большим и тогда буду знать, что такое "ристик"".
Но прошли года, потом десятилетия и, возможно, скоро будет полвека — а я так и не знаю, что же такое "ристик" (и зачем ему понадобилась, по мнению миляги-Гепарда, характеристика). Не знают этого ни Яндекс, ни Гугль, ни Википедия. Раз в ~10 лет я спрашивал наиболее эрудированных собеседников про "ристика". Но к дешифровке термина так и не приблизился.
Была версия, что неправильно запомнил... Но "листику" характеристики явно не нужны. Ещё версия, что "ристик" — неприжившийся термин вроде "участника ристалища". Может, это и ближе к истине, — но никаких подтверждений тому я тоже нигде ни разу не узрел.
Спрошу-ка на Пикабушечке. Люди, может, у кого есть ПЕЧАТНОЕ издание КОАПП — были тогда такие совершенно роскошные, прекрасно иллюстрированные книги, на глянцевой бумаге, по цене чугунного моста, крыла самолёта или ящика портвейна... Если у кого таки есть, — посмотрите, пожалуйста, ЧТО ЖЕ СКАЗАЛА ЭТА СВОЛОЧЬ ГЕПАРД???
Тег только такой прилепился. ))
Змея удав
откудб фраза "душить удава"? филологи просветите.
почему душить змей
почепу так говорить
в чем смысл
нафиг выражаться так
удав, змея, кобра типо душмт их нормально? типот ни у кого претензией нет? у защитников животных?
типо вау охуеть душим змею заебись а дальше
волков, тигров, антилоп кроликов?
я ен точто бы очень чувствителен, однако я совершенно не понимаю, почему этот фраза не оскорбляет нормального здравомыслящего человека
прастите за ошибки и опечатки. у меня кривые пальцы