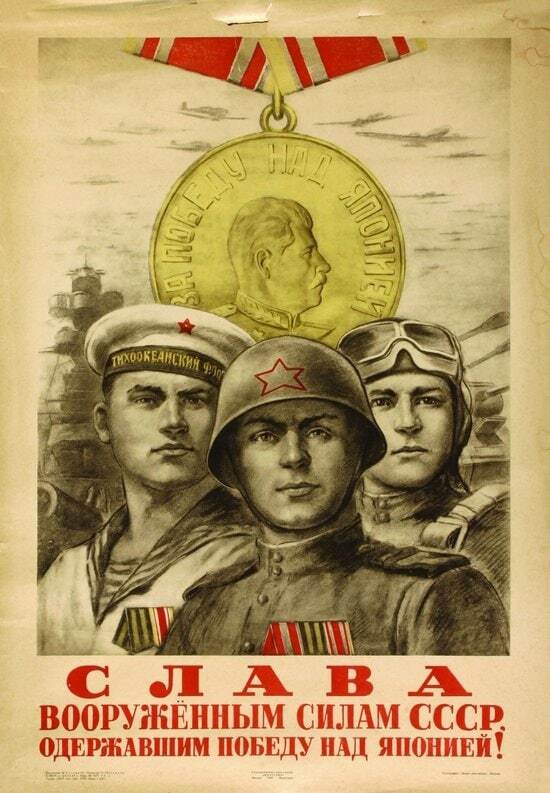Нахрапистости и беспринципности буржуазной пропаганды удивляться не приходится. Никакой зауми, никакой учености, никакого нудного академизма. Апеллирование к простейшим чувствам, к «здравому смыслу», ловкое жонглирование фактами на доступном обывателю уровне. Главное - охват масс, формирование общественного сознания, а не полемика в категориях философии и этики с мыслителями-одиночками, никакого электорального значения не имеющая.
В отличие от буржуазной, советская контрпропаганда поражала своей беспомощностью и непрофессионализмом. Партийное чиновничество, говоря «рыночным» языком, было неспособно «продать» идеи социализма и советского образа жизни на Запад, зажечь революционным огнем многомиллионные массы трудящихся капиталистических стран. Более того, неуклюжие попытки реформирования социалистической плановой экономики, еще со времен А. Н. Косыгина, выдавали не только незнание руководством страны самых элементарных положений марксистской политэкономии, но и отсутствие каких-либо этических ориентиров, того внутреннего контролера, который у людей обычно именуется совестью.
Строго говоря, лучшим пропагандистом и воспитателем является сама жизнь - социальное бытие, господствующие отношения в сфере производства и распределения общественного продукта. При социализме, когда эти отношения построены разумно, рационально и справедливо, то никакой специальной воспитательной работы и не требуется. Всё воспитание сводится к образованию, к объяснению закономерностей общественного развития, наряду с естественными науками еще в курсе средней школы. И пока получаемые человеком знания не противоречат реальной действительности, то и никакой нужды в аппарате пропаганды нет. Но если социальное бытие не соответствует радужным картинкам в телевизоре, то пропаганда может возыметь обратный эффект - породить цинизм, равнодушие, внутренний протест.
Случайные лица, достигшие вершин власти в результате изощренных карьерных интриг, без ложной скромности, называвшие себя «верными ленинцами», были бесконечно далеки не только от Ленина, но и от собственного народа. Рассчитывать на то, что подобная публика будет способна предложить миру внятную картину будущего, не приходилось. Конституционные права, какие-то минимальные социальные гарантии в значительной степени были обеспечены уже и в развитых капиталистических странах, и оправдываться тем, что у нас тоже есть права на демонстрации и свободу слова было, по меньшей мере, глупо. Вместо популяризации марксизма-ленинизма, вместо доказательного обоснования теории научного коммунизма как нового способа производства, базирующегося на общественной собственности, равенстве, справедливости, высочайшей производительности труда, вся аргументация сводилась к социальной защищенности, к заботе о простом человеке, да критике пороков буржуазного общества, к которой советские люди относились с большим скепсисом.
Одним из признаков идейной капитуляции советской бюрократии перед Западом стало глушение «радиоголосов», «клевещущих» на советский общественно-политический строй. Нельзя сказать, чтобы их слушало много народу и что они оказывали какое-то серьезное влияние на формирование общественного сознания, однако, сам факт глушения привлекал к таким передачам новых слушателей. Как известно, запретный плод сладок и чем больше предупреждений об его вредности и безвкусности, тем больше желающих его отведать.
К тому же, сильно врать «вражьим голосам» особой нужды и не было. Советская действительность давала немало поводов для самой язвительной критики, на которую партийные идеологи, связанные господствующими догмами, ничем вразумительным ответить не могли. И неудивительно. Испытывая комплекс неполноценности, присущий всякой бюрократической «элите», советское руководство пыталось играть на чужом поле, по чужим правилам игры, принимая язык и логику противной стороны. Сравнивая зарплаты, покупательную способность, цифры валового производства, напирая на отсутствие безработицы и социальные гарантии советских людей. Буржуазные пропагандисты с удовольствием потирали руки. Их не интересовали цифры. Они показывали полные прилавки супермаркетов, автомобили чуть ли не в каждой семье, бытовую технику на кухнях рядовых американцев, демонстрировали всё буйство безудержного потребления, красочного рекламного гламура, на фоне чего тускнели все неуклюжие контрдоводы советской пропаганды.
А ведь марксистско-ленинская философия является единственной научной основой, открывающей закономерности развития способа общественного производства. Все остальные «философии» так или иначе отражают представления о должном отдельных писателей, жонглирующих, как сейчас говорят, «мемами» - «государство», «демократия», «свобода», «рынок», «конкуренция», «общество», в жалкой попытке имитации научной лексики. Концепции, которые идут не от практики, не от реальной жизни, рождаемые воспаленным сознанием разного рода идеалистические химеры, можно разделить на две большие группы. Первая, обусловлена добросовестным заблуждением, незнанием предмета, чистым невежеством, незамутненным корыстным расчетом. Вторая, - сознательный ввод в заблуждение общества ловкой, местами даже остроумной демагогией, с целью получения какой-либо частной выгоды отдельному лицу или господствующему классу. История показала, что это дело нехитрое, что люди в массе своей доверчивы и легко принимают на веру самые безудержные фантазии авторитетных оракулов, не требуя никаких расчетов или доказательств.
Вроде бы чего проще? В стране производилось достаточно продуктов питания, товаров народного потребления, никто не голодал, не жил под забором, не побирался. Проблемы на потребительском рынке имели рукотворное происхождение, определялись сохранением товарно-денежных отношений, деформированных волюнтаристской ценовой политикой. Никакой «уравниловки» в Советском Союзе, разумеется, никогда не было. Более того, неравенство часто носило не столько материальный, сколько статусный характер, свойственный даже не буржуазным, а добуржуазным экономическим формациям. Наследие царского режима проявлялось в отсталости общественного сознания, лишенного буржуазной демократической традиции. Большевики не из пробирки появились – в своей массе они были представителями простого народа и зачастую обладали своим «традиционным» пониманием жизни. Марксизм ими сводился к нескольким лозунгам, начинающихся словом «Долой» - долой буржуев, долой эксплуатацию, долой паразитов и т. п. Относительно проекта будущего имелись лишь самые общие представления, зачастую отражающие крестьянские, собственнические представления о справедливости.
В. И. Ленин хорошо видел опасность перерождения партии: «…надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него».
Марксистская, коммунистическая партия сильна Идеей, а не дисциплиной, регламентами и протоколами собраний. Многие партии, религиозные секты, монашеские ордена имели железную дисциплину и организацию – где все они сегодня? Устранение всякой полемики из практики идеологической борьбы говорит либо о вопиющем невежестве политбюровских вождей, либо наличии таких неудобных советских реалий, которые не могли быть убедительно оправданы. При всей своей буржуазной ограниченности в западном обществе были свои «великие уравнители» - сначала Кольт, а потом и всесильный Доллар. Да, есть социалистическое равенство по отношению к средствам производства, но есть и буржуазное равенство всеобщей зависимости от денег, в котором зачастую более ясно и наглядно, хоть в извращенном виде и воплощался «социалистический» принцип оплаты «по труду».
Разумеется, цена рабочей силы при капитализме складывается под влиянием всесильного закона стоимости, подвержена колебаниям, а в результате конкуренции на рынке труда имеет тенденцию к понижению вплоть до уровня физического выживания работника. Иллюзию благополучия создает кредитная долговая яма, в которую жирующий финансовый капитал загнал всё общество, создав огромные пирамиды из ничем не обеспеченных бумаг в сравнении с которыми афера «МММ» выглядит невинной шалостью детишек в песочнице.
Однако не менее извращенным он был и в советском обществе, в котором цена рабочей силы, как, впрочем, и остальных цен, определялась не действием закона стоимости, а административно, формально, исходя из произвольно трактуемой экономической и политической целесообразности. При этом, грубейшие извращения марксистской теории подавались как «следование ленинским курсом», обрамлялись букетом цитат, из которых следовало, что первейшим врагом всякого коммуниста является уравниловка, что в первой фазе коммунистического общества распределение потребительских благ производится «по труду» и, наряду с моральными при социализме сохраняются и активно применяются материальные стимулы. Что Ленин, говоря о равенстве, имел в виду уничтожение классов, а поскольку при социализме классы еще сохраняются, как сохраняются и различия в характере труда, то сохраняется и неравенство в распределении общественного продукта.
Рассчитывать на победу с таким идейным хламом, тем более имея весьма плачевные результаты воплощения подобных теорий в жизнь, не приходилось. Незыблемый этический принцип социализма – равенство в труде и равенство в плате. Никто не может получать каких-либо дополнительных благ, исходя из своего места в системе общественного разделения труда. Никакая должность не может быть привилегированной, вне зависимости от «важности», «ответственности», «квалификации», «заслуженности», места жительства и т. п.
Почему марксист должен отказываться от полемики, к тому же на бесплатно предлагаемой «вражескими голосами» платформе? В свое время ради возможности выступить перед народом большевики не боялись идти в царскую думу. Испугался бы Ленин агиток, к примеру, «Голоса Америки»?
Часто убожество потребительского рынка в Советском Союзе оправдывалось мобилизационным характером экономики страны, в одиночку противостоящей мировому империализму. Это ложь. Я помню прилавки магазинов в 1950-е годы, где было все, что душа пожелает самого отменного качества. Дорого, но, при желании, каждый мог купить в госторговле или на колхозном рынке любой деликатес. Прекрасно работала сеть общепита без какого-либо инициативного «частника» и «эффективного собственника». Ухудшения начались с попыток «материального стимулирования» производителя, с тщетных усилий заставить «рубль работать», иными словами, пробудить в людях алчность, стяжательство, тягу к наживе, что, по мнению партийных кликуш, «соответствовало истинной природе человека».
Вялость официальной пропаганды объяснялось скрытым неверием в возможности нового коммунистического способа производства, незнанием его фундаментальных основ и отторжением правящей политбюровской кликой самого принципа равенства.
Но, может быть, сейчас сделаны выводы из краха перестроечных «рыночных» иллюзий и идея равенства стала господствующей в общественном сознании? Ничуть не бывало. Полные прилавки супермаркетов, рыночное товарное изобилие, свобода выезда за рубеж преподносятся как убедительное «доказательство» верности выбранного курса, как демонстрация превосходства капиталистических производственных отношений над социалистическими. Мало кто осмелиться заявить, что созданная с колоссальными издержками «рыночная экономика» безнадежно уступает даже несовершенной советской модели «командно-административной системы», не говоря уж о научном нетоварном социализме, способным кратно поднять производительность общественного труда.
Непростительное невежество партийной бюрократии, выродившейся в спесивое, привилегированное сословие, в касту «непогрешимых», отсутствие воли и желания что-либо менять, в надежде, что всё как-нибудь само собой разрешится, вело к нарастанию кризисных явлений, к застою и деградации экономики. Сохраняющиеся капиталистические элементы в плановом хозяйстве страны тормозили развитие производительных сил, углубляли социальное неравенство, порождали в обществе апатию, цинизм и равнодушие. И не следует удивляться тому, что даже когда настал «судный день», когда над советской страной нависла смертельная угроза распада и гибели, нашлось мало желающих спасать кучку растерянных карьеристов, не способных зажечь сердца людей искрой Октября 17-го года. Слишком долго они эту искру топтали и заливали своими идейными помоями…
Метик Сергей