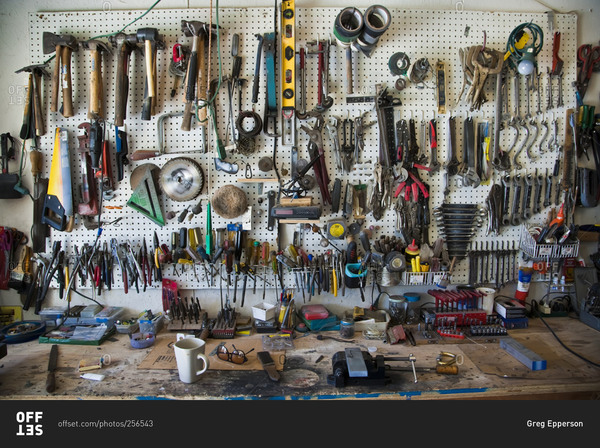Я написал это вообще для всех, кто самостоятельно зарабатывает своим трудом, но в первую очередь, конечно, для психологов.
В статье "Чем занимается психолог, объяснение на пальцах" я вскользь посетовал, что нуждающемуся человеку может быть затруднительно выбрать хорошего психолога, так как в одной вселенной сосуществуют и раскрученные профаны, и малоизвестные таланты. Вопрос актуален не только для психологов, но для них он стоит особняком. Ведь психолог - знаток человеческих душ, мастер игры на их струнах, знаток кнопок психики и мастер коммуникации. Как вообще может такое получиться, что при всех этих талантах к нему не стоит постоянная очередь желающих прикоснуться к его мудрости? Психолог же, понимаете ли, решает проблемы клиентов, почему бы ему не решить свои? А если он кивает на сапожника, который без сапог, то почему не обратиться к коллеге? Закрадывается подозрение, что если у психолога нет обширной клиентуры, то это и не психолог вовсе, а так, мелкая сошка с дипломом, а то и просто с сертификатом о переподготовке...
И тут ошарашивает понимание, что у всяких безграмотных гадалок, расстановщиков, астропсихологов, экстрасенсов, гуру и полугурков, как раз образования толком не имеющих, а то и не имеющих вовсе, не способных освоить родной язык до состояния грамотности, — у них-то как раз с клиентурой и спросом все в порядке, а то и более чем.
И вместо сомнений в том, что мы все делаем хорошо, настигает нас когнитивный диссонанс. Вы ведь посмотрите на всех этих изатырических светочей: рожи ведь такие, что на рынке не захочешь у них картошку покупать — обдурят. А народ прет...
Между прочим и некстати. Я для себя придумал визуальный экпресс-тест на интеллигентность: можно себе представить этого человека на рынке за прилавком, или нет. Если можно, то смело, с хорошей вероятностью предполагаем, что там ему и место. И вот у всех (ладно-ладно, не у всех, у большинства) этих гуру, колдунов и гадалок морды именно такие. Рыночные. Вообразить их себе читающими лекцию значительно труднее.
Но возвращаясь к теме. Что же это за мироустройство такое ущербное, что честные профессионалы прозябают, а профаны и шарлатаны процветают? Причем, именно как правило, а не в порядке ошибок маркетинга? Вы вообще часто встречали богатого врача? Или богатого психолога? Не более-менее обеспеченного, а именно богатого?
Впрочем, хватит размазывать кашу по столу. Вопрос понятен. Почему у хорошего психолога мало клиентов? Есть и второй: как сделать, чтобы они были? И, раз уже мы заговорили о психологах, то тихонько бубнит и третий вопрос: вы точно хотите этого такой ценой?
Возвращаясь к недоумениям, сразу скажу: вопрос касается не только психологов. Почему-то во всех специальностях есть умельцы и профессионалы, которые едва сводят концы с концами, а есть тяп-ляпщики, на которых мы почему-то постоянно нарываемся. И живут вторые почему-то лучше первых. Так что проблема эта не только наша, но, как я уже сказал, в психологии она выглядит куда более странной и удивительной.
Начну, по обычаю, издалека. В старые времена города были небольшими, и всякий специалист был известен. Есть в городе пять сапожников — так все знают, кто чем хорош, а кто, как сапожник, пьет. Есть десять стоматологов — так можно обсуждать, кто и чем из них лучше: кто лечит не больно, а кто ставит пломбы навечно. Во всем известной книге Рафаэля Сабатини "Одиссея капитана Блада" описывается эпизод, в котором врачи Барбадоса вместе скинулись на побег ссыльному доктору, потому что он со своей высокой квалификацией составил им невыносимую конкуренцию.
Нет, не стоит думать, что рынок был настолько честен и объективен. Хорошие, достойные и правильные методы тоже были когда-то кем-то открыты и не сразу находили себе путь в массы.
Скажем, изобретатель и основатель асептики Игнац Земмельвейс был осмеян всем научным сообществом за идею о том, что врачу следует перед операцией мыть руки. Признание эта мысль получила только после его смерти.
Тем не менее, информация о том, кто (из врачей ли, из сапожников ли) чего стоит, имелась в доступности у всех жителей небольшого города. Были и статистические исключения. После определенного уровня известности слух об уникуме распространялся сам собой по городам и весям, и человек становился публичной персоной, получая возможность с горсткой фокусов хорошо (а то и прекрасно) устроиться в любой стране и в любом городе. Таким был Франц Месмер, из сеансов гипноза устраивавший "месмерические" шоу с заряжением воды. А спустя век Август Форель, сделавший для изучения гипноза неизмеримо больше, никакой особой известности себе не приобрел.
Но все же существенное отличие нашего века в том, что вставший внезапно вопрос "к какому специалисту пойти" натыкается на изобилие выборов. Ведь вы посмотрите, сколько психологов толпится на психологических сообществах! Ведь тысячи же! И все, если почитать, такие прямо замечательные, профессиональные, грамотные, просто офигеть от каждого по очереди... И, к сожалению, нахождение в топе рейтинга такого сообщества не значит почти ничего: рейтинг строится на основании того, насколько активно специалист участвует в наполнении и раскрутке сайта сообщества: публикует заметки, спорит на форуме до судорог в пальцах, и так далее.
Рекомендации знакомых тоже ничего не дают. Ну сходил некто к такому-то, ну понравилось. Или не понравилось. Таким опросом можно с какой-то вероятностью избежать явно негодного выбора, но хочется-то найти самолучшего из хотя бы сотен, а лучше — тысяч. Поэтому избыток информации у современного человека дает тот же самый эффект, что и недостаток: невозможность эффективно выбрать.
И он, бедный, строит себе иллюзию выбора: читает аннотации, рекламные листовки, афиши, лендинги... Вы в состоянии выбрать хорошее вино по тексту на задней этикетке?
Но выбирает-то он из того, что ему подвернулось. И, получается, что популярность специалиста зависит от того, насколько он удачно подвернулся. Или же не просто удачно, а запланированно и организованно.
И тут у нас из глубин словаря всплывают два слова, никак не относящихся к профессионализму специалиста: РЕКЛАМА и ПРОДАЖИ.
Да, как это ни грустно, эпоха у нас сейчас такая, что мы покупаем не то, что хотелось бы купить, а то, что продается.
Некоторых моих знакомых я иногда застаю за заказыванием каких-то уникальных ниточек, тряпочек, ножничек с каких-то богом забытых сайтов, потому что там они непревзойденного качества. А то, что продается в магазинах — это ширпотреб для лохов. Я даже пару раз усомнился в целесообразности таких действий, и попросил показать мне разницу. Мне показали. Убедительно показали. Разница в качестве гигантская. А разница в цене — не очень, а то и никакой.
И что же получается? А получается, что я побегу в выходные к знакомой тетке на рынок покупать коньяк минского завода. Потому что он внезапно оказался очень мягким и ароматным, при весьма демократичной цене. А в магазине его не найти. Там стоит гордое хранцузкое бухло невыразительного вкуса и плебейский российский коньяк самогон, который и нюхать-то противно. Ну, в лучшем случае армянский, некоторые купажи которого я уважаю, а иногда и обожаю, но увы, чаще попадается поддельный.
Вы понимаете? Опять получается то же самое. Хороший товар приходится выискивать, а плохой — вот он, бери!
Или пример совсем простой. Практически все, кому приходилось поработать на компьютере с бесплатной операционной системой Linux рано или поздно переходят на него окончательно, с омерзением вспоминая о Windows. Особняком стоят огрызочники, которые вообще ничего пробовать не хотят. Но, тем не менее, у 99% пользователей стоит кошмарная, падучая, купленная или краденая винда, обремененная вирусами и антивирусами (между прочим, под линуксом вирусов нет). Это при том, что в сегменте серверов, где программы выбираются на продуманных основаниях, соотношение обратное: 99% машин работают под линуксом. Почему так?
А все очевидно: у Microsoft есть служба продаж, и хорошая, а у Linux — нет. Он, как я и сказал, бесплатный.
И, как вы понимаете, работа по продвижению продукта — это совсем не работа по его производству. Завод с качественной продукцией, но со слабым отделом продаж будет прозябать, а завод с некачественной продукцией, но с сильным отделом продаж — процветать. И не надо мне рассказывать про конкуренцию, репутацию и самоорганизацию рынка. Договорился продажник с сетью магазинов — и будет у них на полках поддельное молоко. Не договорился — и фиг вы найдете натуральное.
Итого: есть ли у специалиста клиенты, зависит не от того, насколько хороший товар или насколько хорошую услугу он предлагает, а то, насколько хорошо он умеет предлагать. Продавать. Поэтому самые популярные и раскрученные бренды и имена — это не самые качественные, а самые квалифицированно продающиеся. Если некто плохой психолог, но хороший продажник, он будет блистать. А если наоборот — не будет.
И здесь напомню слегка неуместный в начале статьи экспресс-тест на интеллигентность: человек с физиономией рыночного торгаша естественным образом оказывается успешен на рынке. А гуманитарий-интеллигент на рынке не преуспевает. В том числе и на рынке своих услуг. Он, понимаете, занимается совсем другим делом, и перековываться в продавца не хочет. И даже, открою вам секрет, не может.
Я писал об этом в статье "О кастовости в современном обществе". Шудры, творящие шедевры руками, или брахманы, занимающиеся наукой, культурой и искусством, имеют категорически отличный от вайшьев образ мышления, стихия же вайшьев — финансовые потоки. И нельзя на полчасика оторваться и быстренько освоить искусство продаж — это не просто техника, и даже не искусство, это БАЗОВЫЙ функционал мышления, основа восприятия мира и общества. Именно поэтому индусы мудро разделили народ на варны таким, а не другим, образом, и выделили торговцев в отдельную варну, наряду с шудрами, брахманами и кшатриями. И не зря они проповедовали невозможность перехода из варны в варну. Впрочем, не буду пересказывать статью; захотите — почитаете.
И освоение профессии продажника, равно как и любой другой финансово-торговой, на уровне, предполагающем качество и успех, это не просто обучение навыкам. Это капитальная перестройка восприятия человеческих отношений, связей между людьми и событиями, этики и морали, даже философии.
Моя третья жена (не беспокойтесь, всегда была только одна), юрист, рассказывала, что самым сложным в обучении профессии было для нее освоение юридического мышления. Там тоже другой мир. Мне удалось — нет, не освоить, но заглянуть в этот мир, прикоснуться к нему и научиться подглядывать в него через щелочку моих психологических талантов. Там действительно все выглядит совсем иначе.
И вот тут возникает неприятная ситуация: специалист, осмелившийся перестроить свой мир на мир вайшьи, перестает быть специалистом. Ибо именно восприятие мира позволяло ему тачать удобные, красивые и прочные сапоги, или, скажем, проводить консультации, после которых клиент уходит окрыленным и понявшим, как жить дальше. Более того, став вайшьей, бывший специалист хорошо понимает, что его специальность не даст ему больше денег, чем он в состоянии заработать сам. Причем его заработок будет зависеть от того, насколько он в состоянии работать. А это ненадежно. Поэтому товар-то так себе, и нет оснований на нем зацикливаться. А вот продажа меланжа или шахтных отвалов... Ну, или хотя бы, если так прямо хочется остаться в известной среде, можно же и не самому консультировать, а нанять нищих брахманов-интеллигентов, которые работать могут, а продавать — нет. Вот пусть они и консультируют, а я буду собирать комиссию.
Не напомнило устройство психологических сообществ, а?
Поэтому, между прочим, книжки класса "Как заработать миллион" или "Как за десять уроков добиться финансового успеха" совершенно бесполезны. Их единственное назначение — быть проданными. Ведь написаны они вайшьями, не забыли?
И, между прочим, поэтому не получится нанять продажника, чтобы он торговал вашими талантами. Они для него — вовсе не такой уж заманчивый товар. По разным, вполне объективным причинам. Как максимум, это он может нанять вас, а с вами еще десяток другой таких же, и именно он будет решать, сколько для вас будут стоить его услуги. Опять же вспоминаем о психологических сообществах.
Самое время сесть и погрустить.
Сели, погрустили.
Теперь вспоминаем, что я — психолог. Причем отличный психолог, грамотный, опытный, харизматичный, умный, в общем молодец. И проблема должна иметь какое-то решение, пусть и не простое. Ведь действительно, есть же специалисты, которые заслуженно имеют стабильный, приличный доход, которым не пришлось поступаться ради этого своей специальностью.
Ну и как же?
Как и обещал, непросто.
Во-первых, все эти люди — яркие, энергичные, целеустремленные. Вот так у них случилось. Пусть даже это не их врожденные качества, а они годами их нарабатывали и тренировали, но подчеркиваю: годами. А то и десятилетиями. Российский практический психолог №1, Николай Иванович Козлов, был когда-то вполне себе смешным пареньком с глупыми мечтами. Но, простите, ведь больше тридцати лет прошло. И все это время он усердно пер к своим глупым мечтам, и они сначала перестали быть глупыми, потом из мечт превратились в планы, потом... Вы хотите потратить на свой успех тридцать лет? Или хотя бы двадцать? Вот и я думаю, что многовато.
Во-вторых, торговля для брахмана (представителя высшей касты, "дваждырожденного") — шаг вниз, даже два, через варну кшатриев. Черная, неуважаемая работа. Естественный интеллигентский снобизм, выражающийся в щепетильности, не позволяющей угодливо втюхивать всем подряд самолучшие тренинги и консультации в манипулятивных, ярких фантиках (смотри "Почему я не люблю рекламу"), скорее заставит гордого служителя разума и сердца смириться с нищетой, но зато заниматься любимым делом, чем опуститься до унизительного стояния за прилавком в компании жадных, нечестных, неутонченных торгашей.
В-третьих... Да лень, просто лень. Мы уже не мальчики и девочки, резвые и кудрявые, обдумывающие свое житье и выбирающие чем заняться. Это ведь надо долго и нудно осваивать даже не то, что очень сложные, а попросту скучные механизмы движения денег и клиентов. Нет, если честно и серьезно, то финансы — увлекательнейшая, затягивающая игра, которой многие отдают всю свою жизнь и не жалеют. Но ведь в футбол тоже не все любят играть. (А об этом — в статье "Что наша жизнь? — Игра!").
В-четвертых, нам не будет достаточно просто научиться азам. Мы ведь хотим конкурировать с уже сложившимся, опытными игроками.
И отсюда встает вопрос: А оно нам надо?
Может быть, что и нет. В конце концов, вы живете довольно интересной жизнью, занимаетесь любимым делом, ваш мир уютен и красив, стоит ли его ломать ради другого мира?
А может быть и да.
И тогда я вам расскажу про одного человека, который еще очень давно не смог (или не захотел) разрешить для себя дилемму, конфликт между стремлением к просветлению, прекрасному и заманчивому миру духовности и философии, и желанием жить в обществе, заниматься конкретными, интересными делами. Звали его Вималакирти (ткните, ткните в ссылочку, мышка не отвалится).
Вималакирти — один из буддистских бодхисаттв, успешный бизнесмен, купец и домовладелец, достигший просветления без отрыва от активной социальной деятельности, почитаемый также как мастер дискуссий. Собственной жизнью и своим учением он доказал, что внутренняя гармония не обязательно требует удаления от мирской суеты и молчаливого ухода в себя.
К сожалению, он прискорбно пренебрег описанием технической части удивительного совмещения своих успехов в обеих областях. Но кое-что мне удалось восстановить.
Прежде всего, у него было отличное чувство юмора. Понимаете, очень важно не относиться всерьез ни к себе, ни к своим ценностям, ни к своим способностям. Надо быть циником в первую очередь по отношению к себе и к своим основам, чтобы наши достоинства, одновременно являющиеся базой для наших ограничений, не превращались в сакральную ценность, к которой мы боимся прикоснуться, и потому отказываемся от работы с ней.
Далее: он был отменным полемистом, мастером спора. Напомню, что средневековые полемисты практиковали такое упражнение: ученику давался тезис, и он должен был его аргументированно обосновать. А когда это ему удавалось, он тут же, немедленно, должен был так же аргументированно обосновать противоположный тезис.
Готовность просто по своей прихоти встать на любую позицию важна для гибкости мысли, без которой вы не сможете освободиться от оков привычного вам мира.
Вималакирти был бодхисаттвой, просветленным. Напомню один забавный коан: "Что такое Будда? — Два куска сухого дерьма!". Не буду его сейчас подробно разбирать (это надолго), но для нас важно, что все имеет природу Будды, включая дерьмо. То есть, никакая деятельность сама по себе не может вас унизить. Более того, никакая деятельность не может испортить вас. Если вы займетесь торговлей, то только вы будете выбирать, с каким настроением и в каком душевном состоянии вы будете это делать, и насколько чист и красив будет ваш мир. Просто для галки вставлю сюда фамилию: Гурджиев.
Вималакирти был еще и меценатом и благотворителем. Что неудивительно. Но, понимаете ли, чтобы раздавать деньги творцам и нуждающимся, нужно сначала эти деньги сделать. Вы понимаете, какой фокус? Для того, чтобы эффективно заняться духовной деятельностью, надо себе такую возможность обеспечить. И нет в этом греха.
Если вы снизойдете до такого непотребного занятия, как смотрение телевизора, и включите эфирный канал, вы сможете наблюдать мерзкие рожи, говорящие глупости и гадости, бездарных артистов, изрыгающих похабные звуки. Но: ОНИ МОГУТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ. У них достаточно средств и связей, чтобы вылезти в эфирный видеоблог с такой фигней, и не заботиться о том, нравится ли это каким-то там вам, или нет. И если вы хотите нести добро и истину, то будет благородно и возвышенно забраться на подходящую кафедру. Христос вон вообще, по одной из версий, собирался проповедовать с креста.
Но возвращаясь к технике. Мы, как психологи, знаем такое выражение, как "переключение контекстов". Нормальный переход нормального человека из одной роли в другую, которых у этого нормального человека может быть множество: сын, отец, брат, муж, подчиненный, начальник, коллега, партнер, исполнитель, заказчик, продавец, покупатель, агрессор, жертва, спаситель... В каждой такой роли человек как будто приобретает новую личность. Ненадолго. Глубже, чем плохой актер, но примерно на ту же глубину, что и хороший. Нам, как психологам, должно быть доступно управление собой в большей мере, чем не психологам. И тогда мы имеем право переключаться из роли возвышенного и духовного в роль хитрого и расчетливого. Или в роль властного и гордого. Или в роль молчаливого и кропотливого. Все четыре варны, ага?
Да, такие переключения стоят больших усилий, поскольку затрагивают более глубокие слои нашей личности, но ведь количественная разница нас не пугает? Мы можем не становиться вайшьями навечно, а переодеться в халат менялы и подежурить в лавке месяц-другой в порядке практики, игры, эксперимента.
Что, собственно, я и предлагаю. Оставьте спесь, спрячьте диплом и наймитесь продажником или даже торговцем куда угодно. Профессия востребованная, берут всех. Никому не говорите, что вы психолог. Спрячьте свое ЧСВ, если оно есть. Даже если поначалу вас надуют, и вы ничего не заработаете, то вы приобретете опыт, за которым (а вовсе не за деньгами) вы, собственно, и шли. Важно сменить три-четыре места работы, чтобы проникнуться не частными особенностями, а общими свойствами атмосферы продаж. Я настаиваю на том, чтобы это были не интеллектуальные усилия понимания, а душевные, требующие глубокого и честного вовлечения.
Вам важно научиться продавать душой. Освоив этот мир, пусть и в небольшой части, освоив навыки продажи одного товара, другого, третьего, вы сможете в принципе продавать что угодно. Пусть даже и себя.
А вот после этого вы сможете понять, как же глупо вы себя вели раньше.
Это все на сегодня, и так много получилось.
Источник