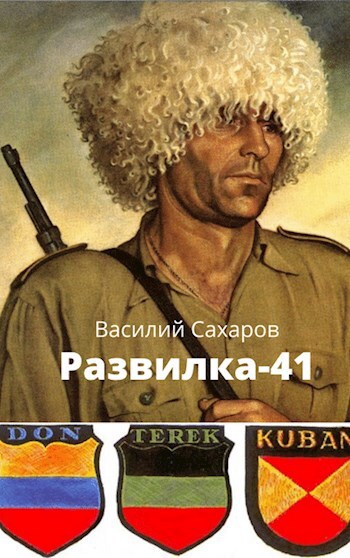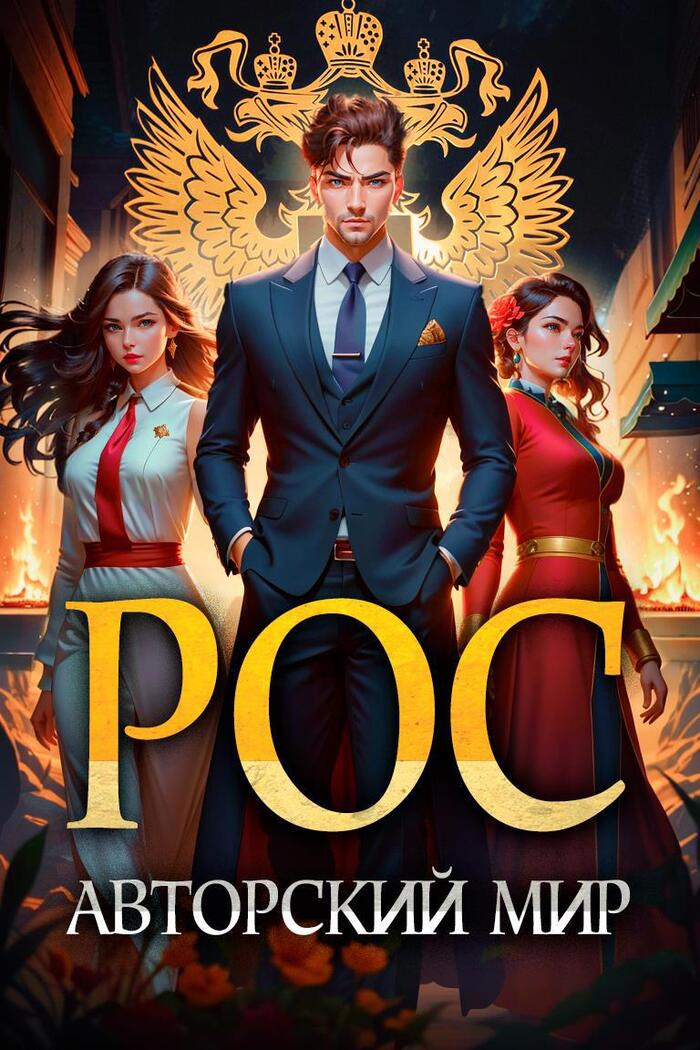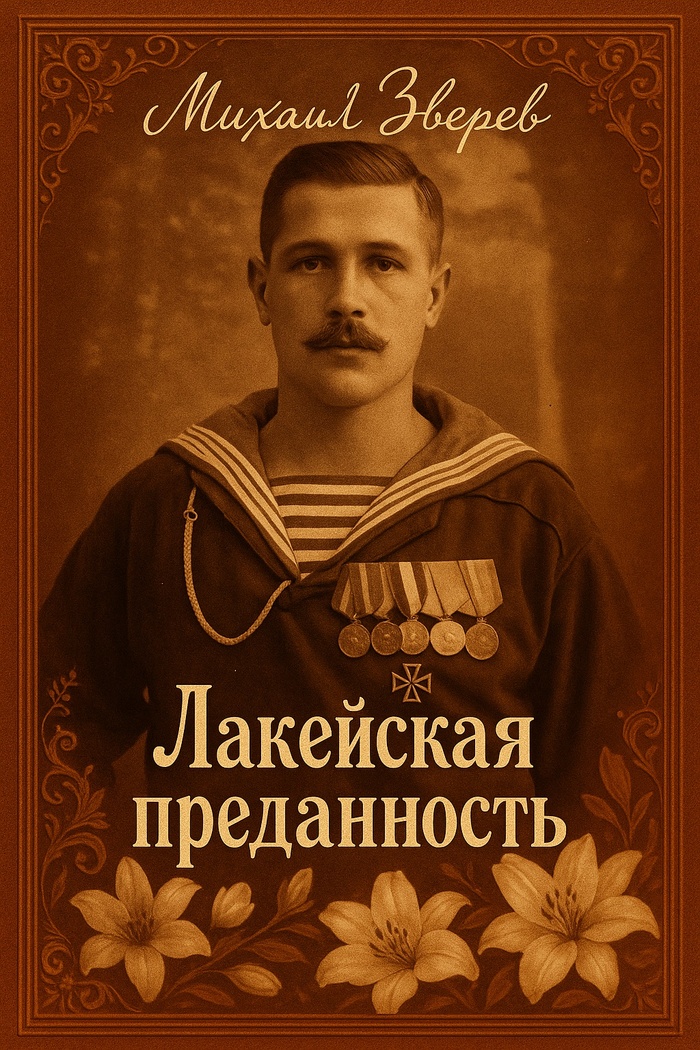Май 1943 года, Тунис. Остатки немецкой колонны, отрезанные от своих после падения побережья, вязнут в раскалённой пустыне. Жара плавит металл, вода на исходе, а надежда тает под палящим солнцем. Гауптман Рихтер, их командир, ведёт солдат к последнему шансу на спасение — таинственному оазису, о котором шепчутся местные. Но вместо воды их ждут древние руины, хранящие следы давно забытых сил.
Когда отряд сталкивается с выбором между долгом и отчаянием, а разум пасует перед шорохами песков, становится ясно: пустыня не отпускает так просто. Что-то древнее и равнодушное следит из теней, предлагая сделку, цену которой невозможно понять. Впереди — дорога, но куда она ведёт: к спасению или в бездну?
-«Всё, всё, всё! Глуши! – заорал Фриц, соскочив с капота и замахав руками. Водитель, следивший за ним высунувшись из окна, выключил зажигание, а трёхосный, бортовой «Айнхайтс-Дизель» в грязной, жёлтой окраске DAK[1] затрясся, отказываясь глохнуть. Мимо, объезжая застывший грузовик, и вынырнул и остановился сбоку односкатная штабная машина с выгоревшим, драным, брезентовым верхом.
-«Ну что у вас там?» - нервно выкрикнул офицер.
-«Бесполезно, герр гауптман! Слишком жарко! Закипел. Мы угробим двигатель, если и дальше будем ехать под этим проклятым солнцем! – ответил Фриц.
Он опасливо отстрянясь, аккуратно положил промасленную тряпку на крышку радиатора, крутанул её и стремительно отскочил. Вверх ударила струя перегретого пара.
-«У нас не достаточно воды для питья, что уж говорить о радиаторах» - устало сказал он офицеру. Тот досадливо поморщился, но спорить с фельдфебелем было бесполезно, тот был абсолютно прав.
-«Останавливай колонну, опять поедем ночью!» - гауптман устало пошатываясь, вышел из Мерседеса, и протянул фельдфебелю полупустую пачку трофейных американских сигарет.
-«Спасибо, - Фриц взял сигарету и добавил, - полжизни готов отдать за бутылку прохладного, светлого, немецкого пива!»
Гауптман Рихтер, блондин средних лет, сухопарый мужчина с красным от африканского загара лицом, стянул с головы фуражку с очками-консервами. Он потёр руками короткие полосы, стараясь хоть немного стряхнуть с них вездесущий мелкий песок.
-«Какая жара, а ведь всего лишь май! Представляю, что за пекло тут летом!» - пробормотал он.
Рихтер оказался в Тунисе с последним подкреплением в ноябре 1942-го, когда на побережье царила приятная прохлада. В отличии от фельдфебеля, который воевал в Северной Африке с весны 1941-го и в полной мере познал что такое летняя жара в Ливии и Тунисе!
Фриц сплюнул, вязкую, отчего то отдающую солярой слюну, бросил под ноги окурок и по привычке раздавил подошвой. Тут же улыбнулся, размазывая пот на лбу рукой, оставляя грязные потёки. По привычке, что б пожар не приключился! Это тут то! Среди песков! Да пусть она сгорит, эта чёртова пустыня, адским пламенем пусть сгорит! Адским… А вот у нас, северян, Фриц, белобрысый потомок выходцев со Скандинавии, зажмурился от немилосердно палящего солнца, ад – Хельхейм, холодное, тёмное и туманное место! И вот бы хоть на денёк – другой там оказаться!
Чёртова Африка! Чёртова жара! Это надо же, что в голову лезет…про Хельхейм. Всё устали и от Африки и что уж там, самому себе врать, от этой проклятой войны! А ведь ещё совсем недавно, казалось, небольшое усилие и добротный немецкий, солдатский ботинок вышибет ворота Каира и Александрии! Даст сочного пинка, облезлому Британскому льву, вышвыривая его с южного побережья Средиземного моря.
Не вышло. Итальянские союзника обосрались сразу! А вот Роммель, поначалу крепко взял томми[2] за глотку. До июля 1942 года, Лис Пустыни делал с ними что хотел! Даже поймал командующего британской армией в Северной Африке генерала О’Коннера… Фриц машинально поправил железный крест, на левом нагрудном кармане на пропотевшей и выцветшей форменной куртки. Приятно было вспомнить, что это их патруль наткнулся на британского генерала. Но потом всё пошло псу под хвост. Осенью 1942 в Алжире высадились американцы, и прижали итальянцев с немцами с запада, с востока, давила 8-я британская армия. Всё совсем стало тухло, когда Роммеля отозвали в Германию. Несколько дней назад, томми и янки захватили Бизерту и Тунис, отрезая немецко-итальянский войска от побережья.
Жара спала. Самое блаженное время, когда уже не изводит яростное африканское солнце, в то же время нет ещё ночного холода, заставляющего мечтать о тёплых кальсонах. Минут через десять колонна двинется в путь.
Фельдфебель, кривя небритое лицо, выскребал ложкой по углам банки остатки американской тушёнки. Не то что бы янки делали плохие консервы, наоборот, очень даже хорошие, но за последнее время, они дико надоели. Хотя, если бы они не наткнулись на эти несколько заблудившихся в песках американских грузовиков снабжения, то не было этой опостылевшей тушёнки, приличных сигарет с верблюдом на пачке[3] и ещё много чего. Перепуганных американцев, понявших, что они встретили немцев, а не как они подумали сначала, союзников, англичан генерала Монтгомери, отпустили, дав хорошего пинка и указав, в какую сторону им драпать. По крайней мере, им разрешили набрать во фляги воды и досыта напиться, так что шанс выжить у них был. Но вспомнив их тупые, сытые рожи, Фриц, усмехнулся с сомнением. Нет, не выберутся. Ему приходилось видеть высушенные солнцем мумии солдат, у которых сломалась машина или закончился бензин. Пустыня убивает быстро.
Немецкая колонна пополнилась тремя американскими Т-968, мощными трёхосными грузовиками, сделав колонну похожей на разномастный цыганский табор, где вместо лошадей были автомобили. Четыре немецких Opel Blitz с тентом, два «Айнхайтс-Дизель» и три итальянских Фиата. Вся эта, по тем временам роскошь, стала возможной после того как отступающие солдаты гауптмана Рихтера, наткнулись на брошенный итальянский топливозаправщик, залитый топливом под самую горловину цистерны. Гордые потомки римских легионеров, так торопились сдаться в плен, что бросили свой медленный и опасный транспорт. Хорошо хоть не спалили.
Фриц поднялся, глянул на клонящееся к горизонту солнце и уперев руки в бока до хруста потянул спину. Вся техника, будь она не ладна, на попечении его, вместе с техниками, и водителями выбивающимися из сил, что бы она работала. Пора было вновь трогаться в путь. Куда? А пустынные черти знают куда? Где то тут был поблизости оазис, где Африканский корпус загодя оставил пост снабжения. Если его содержимое не растащили жуликоватые местные аборигены, он позволит продержаться до немецкого контрнаступления. Если оно состоится. В реальности, а не в грёзах радиокомментаторов из ведомства д-ра Геббельса[4]. Если…Если…Если… Как много их последнее время! Всё чаще закрадывалась мысль, а не стоило ли последовать примеру тех итальянцев…
-«Господин фельдфебель! Господин фельдфебель!» - утирая пот, подбежал один из солдат, - вас ищет гауптман Рихтер.
-«Иду, Отто, иду, что там ещё за срочность?»
-«Наши наткнулись на какого то чумазого местного - любителя молодых верблюдиц, - пояснил посыльный, - что то он интересное наболтал!»
Фриц, хмуро покосившись на солдата, поправил фуражку и направился к штабной машине, где его ждал гауптман Рихтер. Пустыня вокруг была тихой, лишь ветер гонял песок, создавая в свете начинающихся сумерек причудливые узоры на поверхности. Но что-то в этой тишине казалось зловещим, будто сама природа затаила дыхание, ожидая чего-то неотвратимого.
-«Ну что там ещё за любитель верблюдиц?» - спросил усмехаясь Фриц, подходя к Рихтеру, стоявшим рядом с низкорослым неряшливым арабом в рваной одежде. Тот что-то быстро и взволнованно бормотал, размахивая руками, и указывая в сторону горизонта.
Рядом с ним, внимательно слушая и кивая головой, находился их переводчик из местных, Агизур. Личность это была примечательная и колоритная. Он прибился к немцам ещё весной 1941 года и давно уже носил дикую смесь формы Африканского корпуса с национальной одеждой своего народа – кабилов[5]. Просторная одежда берберов - «джелаба», из белой ткани, сочеталась у него с песочного цвета кителем DAK с отложным воротником. На ногах – чудные с виду, специальные кожаные сандалии с загнутыми носами. На них он великолепно перемещался по песку и даже скатываться с барханов, словно на лыжах. Всё это дополнял бурнус из светлого сукна с капюшоном. Он давно уже неплохо освоил немецкий и кроме того знал кажется все местные языки и наречия и что самое главное – пустыня была его домом. Без всяких преувеличений, не раз это знание местных обычаев и чуждой европейцам местности, очень выручала немцев.
Никто не знал, откуда он появился, Фрицу уже казалось, что он был у них в отряде всегда. Агизур, повсюду таскал с собой сына – мальчонку лет восьми. Давно, ещё поперву, кто то из солдат пытался выспросить его, почему он не оставит ребёнка с женой или с другой, наверняка, как принято в Магрибе, многочисленной роднёй. Но Агизур, очень болезненно относился к таким разговорам, молча угодил в пустыню, и их с мальчиком не было по нескольку суток. Но куда бы за эти сутки не перемещался их батальон, странный бербер всегда находил их и возвращался. Всё так же с сыном, которого звали Сами. Почему возвращался? А кто его знает… Наверное потом что дико, люто ненавидел англичан и французов. Кто знает, возможно, корни этого чувства и скрывали отсутствие у этих двоих аборигенов жены и матери, а так же других родственников. И не то, что бы он так уж любил немцев, скорее он оправдывал старую истину, что враг его врага, скорее ему друг. Со временем он привязался к солдатам батальона Фрица, а немцы к нему.
К тому же, кроме всего прочего, этот странный бербер, прославился необыкновенной, просто непостижимой меткостью. Фриц сам был свидетелем, как Агизур, из своего старого Маузера[6], попал в голову английскому танкисту, беззаботно высунувшемуся из люка танковой башни метрах в 800 от немецких позиций. На изумлённые вопросы, он что то невнятно ответил, мол просто знает куда попадёт его пуля и что-то про то как Всевышний, направляет его руку. Фрицу с товарищами оставалось только радоваться, что Всевышний направлял руку Агизура в сторону британцев, а не в парней «Пустынного лиса[7]» и союзников-итальянцев.
А пока окружившие их немцы, с интересом наблюдали за диалогом местных. Причём их рослый ауксиларий[8], больше слушал и только изредка о чём-то переспрашивал собеседника, а мелкий, чернявый бедуин без умолку тараторил отчаянно жестикулируя и даже подпрыгивая.
-«Он из племени, которое кочует к западу отсюда, и с его слов, ищет часть своего стада, которое потерял после песчаной бури» - наконец перевёл кабил.
-«Да пропади он пропадом вместе со своим стадом! Что ему известно про оазис, который мы ищем?» - торопливо спросил гауптман.
-«Да, он говорит, что недалеко есть оазис, но судя по всему, это не то место, что нам нужно, господин, - повернулся к офицеру Агизур, - к тому же он постоянно твердит что это «плохое место» и никто из его народа даже близко, предпочитает там не появляться!»
Бедуин вновь визгливо заголосил, то вздымая руки к уже садящемуся солнцу, то размахивая ими, как птица крыльями.
-«Этот сын блудливой ослицы, утверждает, что видел в той стороне солдат. Немецких солдат! – перевёл этот невнятный поток слов, их бербер.
Немцы переглянулись. До сей минуты, они уверены были, что все немецкие части остались далеко на севере.
-«Скорее всего, он что-то напутал! Для местных, редко бывающих на побережье, мы все белые, на одно лицо! Скорее всего, он видел патруль британцев, хотя я удивлён, что они забрались так далеко к югу от линии Марет[9]. Этого нам ещё не хватало! – офицер устало потёр потный лоб, размазывая грязь. Действительно, стоило несколько дней убегать в пустыню, что б всё же оказаться в плену.
С другой стороны, запас воды, в отличии от топлива, подошёл уже к критической точке и даже плен, был предпочтительней, нежели возможности превратиться в ещё одних высушенных пустыней мумий.
-«Агизур, постарайся добиться от него подробностей, где этот оазис, что там за солдаты, сколько их, какая там, с ними техника».
Переводчик продолжил расспрашивать пастуха, но то почти сразу перебил кабила, вновь визгливо заголосил, тыча руками в разные стороны, а потом ткнул Агизура грязным пальцем в грудь, туда, где слева нашит на куртке германский орёл.
Через несколько минут, в указанную кочевником сторону, отправился грузовик с разведкой.
Гауптман Рихтер, перевёл взгляд с циферблата часов на клонящееся за барханы солнце и вновь повернулся к переводчику.
-«Что ещё, этот пастух говорил? Что за «плохое место»? Опять какие-то ваши местные суеверия?»
-«Зря вы, господин, так относитесь к Пустыне! Она была тут ещё задолго до того, как Пророк, да святится имя его, принёс нам Слово Истины, она будет и после нас… Эти пески, хранят много тайн и загадок и они очень часто больше чем просто суеверия».
-«Хорошо! Хорошо! Пусть так! Так что за «плохое место»?
-«Он утверждает, что видел в песках что-то странное, — сказал Агизур, — какие-то руины, которые раньше не были видны. Говорит, что они появились после последней песчаной бури. И ещё... он упомянул что-то о древних духах, которые охраняют это место. Люди их племени, боятся того оазиса, он сказал что люди уходившие туда, не возвращаются»
-«Духи? В этой жаре и так голова кругом идёт, а тут ещё и сказки местные. Может, ему просто воды не хватает?»
-«Ладно, посмотрим, что там за духи, — пробормотал Рихтер. — По моим расчётам, наши ребята скоро вернутся. Но если это очередной пустынный мираж, я лично этого чумазого пристрелю!»
Через час разведчики вернулись. Их грузовик, покрытый слоем песка, тяжело вполз в лагерь, поднимая клубы пыли. Водитель, высунувшись из кабины, махнул рукой, и Фриц с Рихтером поспешили к машине. Из кузова спрыгнули двое солдат, а следом за ними — двое измождённых чужаков. Первый, высокий, жилистый мужчина средних лет, в изодранной форме африканского корпуса, но с непривычными на этой форме, петлицами унтерштурмфюрера и рунами СС, едва державшийся на ногах. Второй, — лет пятидесяти, сутулый, в запылённой гражданской одежде, с тонкими чертами лица и в круглых очках, цеплявшихся за ухо одной дужкой и нелепой мятой и грязной шляпой неопределённого теперь цвета. Он прижимал к груди потрёпанный кожаный портфель и нервно озирался по сторонам.
— «Герр гауптман, мы нашли их у того оазиса, о котором говорил этот местный» — доложил командир разведчиков, ефрейтор Клаус. — они едва живы.»
Рихтер смерил незнакомцев подозрительным взглядом. Мало того, что ещё один немецкий отряд оказался так далеко к югу, да ещё и люди из ведомства рейхсфюрера. Офицер, несмотря на крайнюю степень усталости сохранявший выправку, первым, покачнувшись, шагнул вперед.
-«Унтерштурмфюрер Карл Бреннер, - представился он, протянув руку гауптману, - а это доктор Эрих Вайс. Мы... мы были частью археологической экспедиции Аненербе. Мы искали это место. Вернее моей задачей было обеспечивать охрану учёных.»
Фельдфебель, стоявший рядом с командиром, с трудом сдержал ругательство. Эта-то обезьянья жопа в очках, куда лезет?! Вот ведь не сидится людям дома, вокруг бушует война, а эти учёные всё никак не угомонятся.
Вперёд выступил гражданский, и сбивчиво, торопливо заговорил обращаясь к гауптману Рихтеру:
-«Господин офицер, вы даже не представляете, как мы…я… рад вас видеть, вам немедленно нужно препроводить нас в ставку генерал-фельдмаршала Роммеля, а потом нам незамедлительно нужно вылететь в Германию.»
-«Хм… - Рихтер окинул подозрительным взглядом незнакомцев, переглянулся со своими солдатами и на всякий случай отступил на шаг назад, - не сочтите за излишнюю подозрительность, господа, но я хотел бы видеть ваши документы!»
-«Вы не понимаете! Вы просто не понимаете! Нам срочно нужно…- доктор Вайс трясущейся рукой поправил сползающие очки.
-«Замолчите, Эрих, - решительно перебил его эсесовец, расстёгивая нагрудный карман и достав Soldbuch[10], протянул гауптману.
Из воинского паспорта, выпала и скользнула на песок небольшая фотокарточка, оби офицера нагнулись за ней, но Рихтер успел первый. С фото на него смотрел унтерштурмфюрер Бреннер рядом с красивой блондинкой, в вечернем платье и глубоким вырезом. Гауптман перевернув фото, прочёл: «Майнц 8 июля 1942 г.», вздохнул, задержав взгляд на женщине, вернул его владельцу. Унтерштурмфюрер стянул фуражку, провёл рукой по покрытым густой светлой пылью волосам и как то жалобно улыбнулся, прошептав чуть слышно: «Жена…»
Через несколько секунд Рихтер, уже вернул документ и вдруг понял, что волосы офицера, не просто запорошены песком или пылью. Унтерштурмфюрер Карл Бреннер, которому нет ещё и тридцати пяти лет, абсолютно седой. А несколько месяцев назад, судя по фото, был темноволос.
-«Я готов вас выслушать, господа, впрочем, я предпочёл бы сделать это по дороге. Нам нужно в оазис. Я предпочёл бы оставить отряд на ночёвку там и принять решение о дальнейших действиях.»
-«О Боги! Нет, господин гауптман! Карл, скажи же им! Нам нельзя туда возвращаться!» - казалось ещё чуть-чуть и учёный забьётся в истерике. Он, вытянув руки, бросился к командиру отряда, словно хотел вцепиться ему в горло, но его подхватил под руку унтерштурмфюрер.
-«Полно, доктор, вы же понимаете, это судьба… Всё бесполезно, нам не уйти!» - лицо Бреннера, его фигура, выражали смертельную усталость, а глаза светились смертной тоской.
Гауптман только пренебрежительно хмыкнул, глядя на всё это и зашагал к своему вездеходу, раздавая распоряжения.
-«Агизур! Гони в шею того пастуха! Фельдфебель, заводите машины! Американский грузовик первым не ставь, он с лебёдкой, если Опель или Фиат застрянет, будет вытаскивать!»
Уже у самого Кубельвагена его нагнал эсэсовец.
-«Минутку, гауптман, давайте отойдём немного, мне есть, что вам сказать!»
-«Ну что ещё? У нас не так много времени! Да что уж там, его вовсе нет!» - раздражённо ответил ему Рихтер, но прошёл несколько шагов вслед за унтерштурмфюрером в сторону от машин.
-«Прошу вас! Нет! Умоляю! Если есть у вас дети, есть жена, есть родители, ими молю, гауптман, не нужно ехать в тот оазис! Да, я понимаю, в ваших глазах, мы, скорее всего двое выживших из ума безумцев, мозги которых спеклись под Ливийским солнцем!»
Не ожидавший такого напора, Рихтер изумлённо смотрел в лицо Бреннера с трясущимся подбородком и безумными глазами.
-«Что, чёрт возьми, у вас там произошло, лейтенант?» - спросил он используя привычное ему, армейское звание собеседника.
-«Три месяца назад, по линии «Наследия предков[11]» была организована экспедиция. Вернее она должна была давно ещё состояться, но какие-то проволочки в Берлине, но проклятье! Это сейчас не важно! Четверо учёных и двадцать солдат… А теперь нас осталось всего двое!»
-«Прекратите же истерику, герр Бреннер! Вы можете спокойно и внятно объяснить, что с вами случилось и почему, провались всё пропадом, мы не может туда ехать? Если там англичане или американцы…»
Унтерштурмфюрер, протяжно застонал, закрыв лицо руками: -«Нет же! Нет! Какие американцы?! Какие англичане?! Господи, дай мне силы!!! Вы слышали, чем занимается Аненербе? Вы просто не понимаете, не способны понять…»
Взбешённый гауптман, схватил Бреннера за лацканы куртки и энергично встряхнул, от колонны, видя, что беседа двух офицеров приняла чрезмерно живой оборот, уже бежали солдаты.
-«Это вы, со своим жопоголовым умником, ни черта не понимаете, лейтенант!!! Всё! Совсем всё! Нет никакой «ставки генерал-фельдмаршала Роммеля»! И самого Роммеля в Африке нет! Более недели назад, томми и янки вышли к побережью, захватили Бизерту и Тунис! Генерал-полковник фон Арним капитулировал, окружённый на полуострове Бон! Нас, небольшой отряд производивший разведку со стороны пустыни отсекли от основных сил и мы обычные беглецы! Бродяги! Ты понимаешь это?! Как вас могли отправить в экспедицию без связи?»
-«У нас была радиостанция… - гауптман не замелил, как рядом, вместе с солдатами, оказался доктор Вайс, - у нас был автобус с FuG 11[12], специальной, экспериментальной версии, но… понимаете, тут имеет место определённая магнитная аномалия и радиосвязь не действовала.»
-«Эрих! Какая к дьяволу аномалия?! Будь ты проклят со своей секретностью! Ты же слышал, что он сказали! Немецкие войска капитулировали! Нам никто не поможет!» - повернулся к нему унтерштурмфюрер.
-«Клаус! Отто! Разоружите, господина унтерштурмфюрера, он явно не в себе! Господин Бреннер, сдайте пистолет!»
Бреннер, с помертвевшим лицом, расстегнул кобуру и протянул солдатам Вальтер. Руки офицера заметно тряслись. В окружении своих людей гауптман, эсэсовец и учёный вернулись к машинам.
У вездехода их уже ждал Агизур со сложенными на цевье винтовки, с перекинутым через шею ремнём руками и выглядывавшим из-за спины мальчишкой.
-«Господин, я напоследок расспросил того пастуха. Вы не первый день меня знаете. Но… Если в том что он мне наболтал, есть хоть крупица правды, Всевышний свидетель, нам и правда не стоит туда ехать!»
-«Да вы что, издеваетесь все?! – заорал Рихтер, - что бы ни было в том оазисе, хоть сам генерал Александер[13], не осталось у нас выбора! Практически закончилась вода, а топлива уже не хватит даже на то, что бы вернуться обратно и сдаться».
Уже в сумерках, колона автомашин двинулась в путь. Разоружённого эсэсовца посадили в кузов одного из грузовиков под охрану, неприязненно посматривавших на него солдат. Учёный ехал в вездеходе рядом с капитаном.
-«Так что у вас там произошло? Напали британцы? Местные? Да, они бывают весьма коварны…» - спросил через некоторое время гауптман.
Но доктор Вайс, погружённый в свои мысли, словно не слышал вопроса, глядя на тёмные барханы, верхушки которых серебрил лунный свет. Впрочем через несколько минут он повернулся голову к офицеру и сказал голосом, в котором совсем отсутствовали эмоции: -«Они все умерли, - и добавил, - господин гауптман, давайте всё же не будем заезжать в сам оазис, а остановимся рядом, я укажу подходящее место, а потом я отведу ваших людей к колодцу и они наберут воду. Столько, сколько нужно!»
Рихтер уставший от споров, только кивнул. К тому же, он просто не представлял, что теперь делать и куда ехать. В любом случае, принимать решение о их дальнейшей судьбе, предстояло завтра, уже при солнечном свете.
Колонна двигалась в сгустившихся сумерках, фары выхватывали из тьмы бесконечные волны песка, а моторы гудели, словно, как и люди жалуясь на усталость. Доктор Вайс, сидевший рядом с гауптманом Рихтером, молчал, но его пальцы нервно теребили край потёртого портфеля с которым он не расставался. Наконец, он указал на тёмный силуэт впереди — низкие пальмы и редкие кусты, едва различимые на фоне звёздного неба.
— «Остановитесь здесь, господин гауптман, — голос учёного немного дрожал, — Дальше не надо. Колодец в паре сотен метров к востоку. Готовьте канистры, я отведу ваших людей. Ради всего святого, прикажите людям, не разбредаться по местности!»
Рихтер бросил на него усталый взгляд, но приказал остановить машины. Солдаты, ворча, вылезали из кузовов, проверяли оружие и фляги. Доктор Вайс, немного отошёл от машины и стоял, молча всматриваясь в темноту. Фриц, хмурый, пропитанный пылью и песком до костей, подошёл к командиру и подозрительно посмотрел вслед учёному, — «Герр гауптман, мы готовы. Но этот очкарик... он что-то недоговаривает. И вообще, не нравится он мне. Знаете, тот эсэсовец, он хоть и закатил вам истерику, но он хоть ведёт себя как человек. Испуганный человек. А этот… Может, стоит его прижать посильнее?»
— «Сначала вода, фельдфебель, — отрезал Рихтер. — Потом разберёмся. И следи, чтобы никто не шатался по округе. Мне от их сказок про духов уже не по себе. И вот ещё что, позови ко мне Агизура».
Небольшой отряд, ходивший за водой, вернулся минут через сорок. Учёный действительно привёл их к колодцу, но, по словам Фрица, вёл себя донельзя странно, вздрагивая при любом шорохе. Вернувшись, он ушёл к грузовику, где остался унтерштурмфюрер Бреннер и о чём-то шептался с ним. Эсесовца никто не охранял. Да и куда он денется, кругом пустыня на многие часы и дни пути. Да и пусть бы проваливал, никому до него не было дела. Впрочем, часовые у машин, постоянно сменяясь, службу несли на совесть.
Вода как ни странно, оказалась замечательная. Чистая, холодная. Такая, что зубы ломило. Гауптман Рихтер давно не пил с таким наслаждением. Он уже забыл когда вода имела такой замечательный вкус. Сколько он себя помнил, тут в Африке, он привык пить всё. Грязную, небрежно отфильтрованную, со вкусом вонючего бензина или соляра, потому что наливали её в освободившиеся от топлива канистры. В лагере, голоса солдат стали громче, веселей, уверенней. Есть вода, поживём ещё, а там, дальше, видно будет! То тут, то там, загорелись бензиновые примусы, наконец, можно сварить противный эрзац-кофе из желудей, цикория и ещё чёрт знает чего.
Под навесом, из двух шестов и большого куска брезента натянутого меж двух грузовиков, в неровном свете фонаря, Рихтер расстелил карту на импровизированном столе из снарядных ящиков. Они с фельдфебелем, склонившись над ней, ломали голову над ситуацией, в которою угодили.
-«Нет смысла Фриц… сдадимся мы сейчас или через неделю другую, - гауптман устало потёр небритый подбородок, - надежды на новую высадку наших в Африке, у меня меньше, чем раздвинуть ноги Марике Рёкк[14].
Фельдфебель не успел ответить, послышались шаги и в свет от фонаря, из темноты вступили доктор Вайс и Бреннер.
-«Герр Рихтер, у нас к вам серьёзный разговор! – произнёс учёный негромко и добавил, переминаясь с ноги на ногу, - и желательно с глазу на глаз».
-«У меня нет секретов от моего фельдфебеля, я знаю его практически с первого дня в Африке и доверяю как самому себе» - гауптман хмуро остановил жестом Фрица, который хотел было уже уйти.
-«Пожалуй, так даже будет лучше» - сказал унтерштурмфюрер, переглянувшись с Вайсом.
-«Итак, господа, мы слушаем вас! Садитесь на эти ящики. Нам точно есть что обсудить».
Все четверо расселись вокруг стола и гауптман с фельдфебелем пристально глядя на собеседников, замерли в ожидании. Пауза начинала затягиваться.
-«Сразу вынужден предупредить вас, господа, то, что я вам вынужден рассказать, имеет наивысшую секретность и вы как граждане Рейха, должны мне поклясться…» - начал учёный, но его перебил Бреннер.
-«Полно, Эрих! До секретности ли сейчас, посреди пустыни! Вот это последнее что нужно нам обсудить, давай по делу. Ты же знаешь, что я тут тебе не помощник!»
-«Хорошо… Я постараюсь, господа, рассказать нашу историю не очень вдаваясь в некоторые весьма специфические подробности, понятные немногим учёным. Вы, наверное, знаете, что местная земля не всегда была столь дикой? Было время, тут процветали великие цивилизации…»
-«Не стоит, господин Вайс, считать нас такими уж неучами, - вступил в разговор фельдфебель, - у меня за плечами после гимназии, техническое образование, а господин Рихтер призвался в Вермахт из университета. Мы знаем и про Египет и про Карфаген!»
-«Замечательно, но стоит копнуть глубже. Много глубже… Началось всё ещё до войны. У Аненербе, давно особый интерес к древней истории. Кое-что мы знали давно и сами, а многое узнали, изучая весьма специфические архивы в Пражской синагоге, кстати, самой старой в Европе, потом в оккупированных Париже и Брюсселе. Суть в том, что ещё до того как человек развился в тот вид что мы видим ныне, существовали цивилизации хм… других видов. Обладавших огромным могуществом и непостижимыми технологиями. Но затем, по причине, вокруг которой ведутся споры в очень узких научных кругах, они угасли… Но их знания, осколками, крупицами сохранились по миру. Их впитали тайные культы и жреческие касты по всему миру. В Египте, Индии, Междуречье, Мезоамерике. Многие считали, да и сейчас считают их сказками, легендами, но поверьте, это вовсе не сказки. Хотя… иной раз мне кажется, лучше бы они оставались всего лишь сказками. Но, ближе к делу! Для нас всё изменилось в двадцатые годы, когда о сакральном знании, возможно сам того не желая и не понимая, проговорился один из американских писателей. Не знаю уж как, но ему оказались доступна часть тайных знаний, а это, как раскалённый металл, который невозможно удержать в руках. У этого знания, есть необычная особенность, оно словно само желает быть явленым миру! В одном из своих рассказов он упомянул «Пнакотические манускрипты», которые якобы появились в первобытные времена Земли в древнем городе Пнакотус, который тогда населяли пришельцы Великой Расы Йит.[15] Оригинальные рукописи в виде свитков передавались сквозь века, и в конце концов попали в руки тайных культов Древних богов. Предполагается, что Великая Раса Йит создала первые пять глав «Пнакоти́ческих рукописей», в которых, среди прочего, содержится подробная хроника истории всех рас на Земле. Они же упоминают более древние источники которые названы были после обнаружения: «Эльтдаунские таблички» Это археологические фрагменты керамики, сохранивших дочеловеческую письменность. Они найдены были в 1882 году и названы в честь места, где они были обнаружены, Элтдауна на юге Англии. Таблички датируются триасовым периодом и покрыты странными символами, которые считаются непереводимыми. Что такое триасовый период, думаю, вы знаете? Нет? Это та невообразимая древность, когда единый материк Пангея, только начал разделяться на два континента — Лавразию и Гондвану!