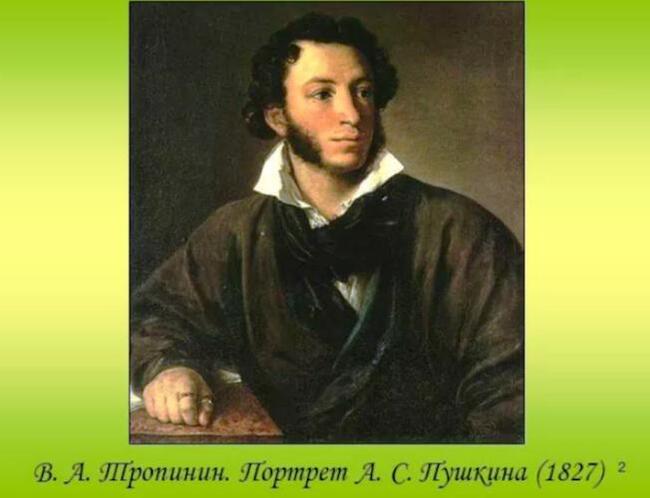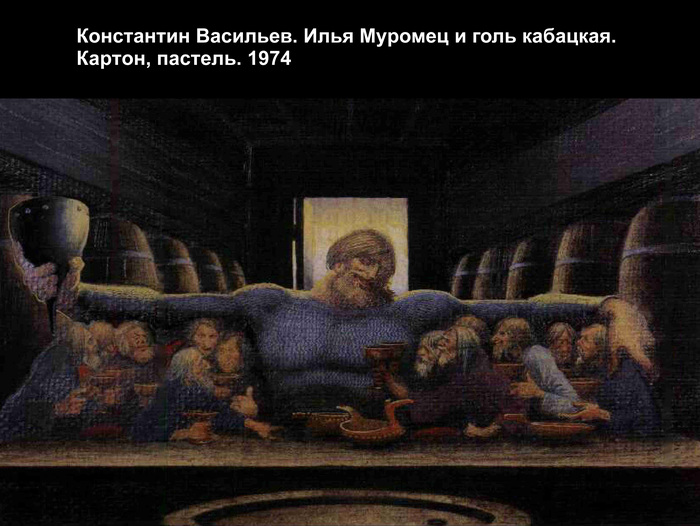из книги СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНИЙ ИЗ ЛОЖИ "ОВИДИЙ")
I
Звание первого национального поэта Пушкин удерживает не-
даром. Ни в чьём поэтическом пространстве так не комфортно че-
ловеческой душе, не дышится так легко и вольготно, как в Пуш-
кинском. Главное в том, что мир обитания здесь предстаёт цело-
купно-огромным и абсолютно реальным. Духовный реалист 1 – вот
подлинное стилистическое наименование для Пушкина-поэта,
мыслителя и “мудреца”, как называли его современники. А начал
Пушкин с чёткого и внимательного освоения посюстороннего ми-
ра, хотя с самых первых шагов в его поэтической повадке и инто-
нации чувствовалось присутствие мира иного, горнего, высшего.
Вот почему очная встреча с трансцендентным в «Пророке» описана
с потрясающей достоверностью.
Появление Пушкина не было случайностью. Оно подготавли-
валось всем XVIII веком. Русские эзотерики, объединившиеся в
сеть тайных обществ, активно и самозабвенно просвещали отече-
ство, продолжая апостолатом первого русского каменщика Петра I 2
начатое им дело. Предчувствуя великие перемены, Н. М. Карамзин,
сам воспитанник русского эзотерического братства, предсказывал
появление в новом столетии необычайного поэтического голоса,
соответствующего мощности “певческого горла” России. Русский
духовный гнозис в конце XVIII – начале XIX вв. встаёт вровень с
европейским; русские эзотерики зачитываются духовными
откровениями Гёте, Бёме, Сен-Мартена, Юнг-Штиллинга, Эккартс-
гаузена.
1 Или – говоря словами Достоевского – реалист в высшем смысле.
2 Удивительная, супермистическая развёртка имени Пётр – камень, а
ведь он был первым Петром на троне.
Тут как раз маленькому шустрому арапчонку приходит время
учиться. И волей провидения в Петербурге (словно) специально
для него основывается Лицей. В дальнейшей судьбе поэта веду-
щую роль сыграл Василий Львович Пушкин, известный поэт, ще-
голь и добряк. «Мой дядя самых честных правил», – это о нём. Ма-
сонский роман «Евгений Онегин» начинается со всем известной
фразы. Но что это собственно за «правила»? Речь идёт о законах
розенкрейцерства, к общине которых принадлежал и Василий
Львович. Председательствовал ложей С. С. Ланской, чей рукопис-
ный сборник речей провиденциально попал в мои руки, как только
интерес к Пушкину оформился в целенаправленную исследова-
тельскую силовую линию.
Итак, отрок Александр рос потомственным розенкрейцером. И
если шаловливый юноша намекает якобы двусмысленно: «Читал
охотно Апулея, а Цицерона не читал», то надо признать, что жрец
Храма Изиды Апулей и впрямь является более захватывающим
гностическим чтением, чем сухопарый ритор Цицерон. Но ко вре-
мени создания «Памятника» мысль повзрослевшего Пушкина на-
гнала и железную поступь Цицерона, автора философских «Диало-
гов» и «Сна Сципиона». Ни одно из сокровищ мировой духовной
культуры не прошло мимо пытливого взора подростка, ни один из
её регионов не был им проигнорирован.
Последние дни пребывания в Лицее. В Царское Село приезжа-
ет своего рода выпускная комиссия 3 и начинаются большие масон-
ские “смотрины”. Выпускником остаются довольны, но для адап-
тации непоседы к орденскому житию решают создать род “подго-
товительного класса”, где в шутливо-игровой форме ему была пре-
подана обрядная символика. Заводилами вызываются быть Жуков-
ский и дядюшка. По розенкрейцерскому обычаю все братья полу-
чают новые имена в соответствии с традицией священного пере-
именования. Имена эти берутся из баллады Жуковского «Светла-
на». Сам Василий Андреевич получает прозвище Светлана, дя-
дюшка – Вот, а юное дарование – Сверчок. Так что Пушкин стано-
вится орденским человеком, ещё будучи в стенах Лицея.
3 В эту орденскую пентаграмму входили Н. М. Карамзин, В. А. Жу-
ковский, А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин и П. А. Вяземский.
Вознесённый на плечах титанов мировой духовной культуры,
хватаясь за участливые руки старших братьев, воистину «растёт
царевич там не по дням, а по часам». Восемнадцатилетний поэт
создаёт одно из самых величественных русских эпических произ-
ведений – рапсодическую песнь «Руслан и Людмила». Она являет-
ся вершиной пятидесятилетней работы русских поэтов-эзотериков
над реконструкцией русского былевого фольклора. Пушкин, сум-
мируя то, над чем они трудились коллективно, создал корпус про-
изведений, подобный «Махабхарате». Перевод Жуковским фраг-
мента великого индийского эпоса «Наль и Дамаянти» задал то-
нальность этой деятельности на первую половину XIX века. Пуш-
кин по-хозяйски включился в эту игру. Сверчок был общим лю-
бимцем в «Арзамасе»; не удивительно, что молодой аэд первыми
же строками поэмы выстроил основополагающую мифологему ду-
ховной структуры русского этноса.
Лукоморье – сакральное место при впадении в Русское море
священной реки. Реально – акватория Чёрного и Каспийского мо-
рей и пойма Днепра.
Дуб зелёный – Мировое древо, связующее мир горний (Правь),
мир дольний (Явь) и корнями уходящее в мир хтонический, под-
земный (Навь).
Златая цепь – концептуальное название для сочинений, со-
стоящих из цепи “златых слов”, собрания высшей мудрости мета-
этнической общности: древних цивилизаций и их нынешних на-
следников-восприемников.
Кот учёный – крупные кошачьи были тотемами первоцивили-
заций. Эта связь с древним знанием выражена эпитетом. Никаких
суеверий – порождений невежества; учёность испокон была врагом
обскурантизма. Поэтому речь идёт не о культе, а о мировоззрении.
Вспомним Шопенгауэра: «Религии как светлячки могут светить
только в абсолютной темноте». Юный рапсод подхватывает:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем великим ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Лукоморье Пушкина всё залито светом; учёность кота стоит на
страже трезвости и здравомыслия... Что же мы видим окрест Ми-
рового древа?
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон без дверей...
Полный набор сказочных персонажей; и весь этот мир – не
байки-баюки домашнего мурлыки, а достоверный пейзаж мифоло-
гического пространства-времени. Идеи-образы взаимно связаны,
взаимно порождают друг друга. Чудо является типовым элементом
этого пространства; впрочем “чудо” оно только на взгляд из этого
мира.
Тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных
И с ними дядька их морской...
Витязей при ближайшем рассмотрении оказывается на три
больше (пересчёт произведён мастером в «Сказке о царе
Салтане») – соответственно градусам масонского посвящения; а
вот в дядьке Черноморе проступают черты Вота («чредой из
вод») – Василия Львовича. И самое значительное: черноморская
прародина славянства связана с изначальным атлантским моноте-
измом, а зороастрийско-манихейский дуализм выражен в борьбе
титанов-магов: Головы, карлы, Наины, финна. На земном плане это
представлено соревнованием-соперничеством Руслана и Фарлафа;
причём если Руслан – Еруслан Лазаревич – рыцарь достаточно рус-
ский, то в облике Фарлафа легко узнаётся Шекспировский Фаль-
стаф. Так творчество Пушкина намертво связывает себя с наследи-
ем английских розенкрейцеров, писавших под коллективным псев-
донимом Шекспир.
Итак, утверждение изначального отсутствия дуализма в сла-
вянской религиозной системе, подтвердившееся позднее исследо-
ваниями учёных, приводит Пушкина к ироническому обыгрыва-
нию профанной оппозиции Белбог – Чернобог. Белбог в поэме раз-
мыт и неуловим (в опере Глинки его роль играет Баян), зато в иро-
ническом уничижении Чернобога-Черномора Пушкин отвёл душу.
Он и ничтожен ростом, и кривоног, и похотлив, и обладает отличи-
тельной особенностью русских церковных иерархов пушкинских
времён – огромной холёной бородой.
В конце концов, лишившийся могущества и прощённый карла
становится карликом-шутом при дворе светлейшего князя. – Неза-
видная участь!
Главная мысль Пушкина: миром управляют тайные неведомые
финны – мудрецы, святые, арбитры, а мордовороты-рыцари (рус-
ланы в том числе) кротко прибегают к их всемогущему покрови-
тельству. Русь-Русланд не составила исключения.
Приверженность холуйскому обоготворению “царя-батюшки”
является поздним извращением и дегенерацией: Древняя Русь была
республиканской. Не только Новгородское народоправство, но и
Киевское объединённое рыцарство под началом князя являют бла-
гое пушкинское равéнство: за столом пирующего Владимира Рат-
мир, Руслан, Фарлаф и Рогдай чувствуют себя независимо и ведут
соответственно этому. Русское, варяжское, хазарское, половецкое
богатырство никогда не лизало униженно самодержавную десть. С
началом “фарс-мажора” царя-батюшки рыцарство кончается.
Поэтому восстановление звания рыцаря невольно ставит масо-
нов в оппозицию знаменитой триаде: православие – самодержа-
вие – народность, тем более что последнее является лишь декора-
цией для первых двух. Единственный шанс для властей – войти на
равных в великое братство. И император Павел I и все его сыновья
были людьми орденскими и благоволили ложам и капитулам, пока
передовое стояние России не стало слишком резко означенным.
Переход от фривольной вседозволенности к подлинной потаённо-
сти сделался лишь переносом акцента с курьёзности на серьёз-
ность. Непоседу Пушкина оторвали от столичных борделей и от-
правили поправлять здоровье на Юг; «Арзамас» без него захирел и
распался. Лукоморье ласково приняло его в свои объятия, а «сво-
бодная стихия» поддержала в смятении чувств. Здесь и произошло
тонкоматериальное свидание с Овидием, ставшим его духовным
поводырём.
Некогда великий римский поэт был выслан в причерномор-
скую глухомань волей августейшего остракизма; то же произошло
через “надцать” столетий и с Пушкиным. “Место встречи” их и по-
роднило мистически. Овидий был мастером метаморфоз-
превращений; Пушкин проходит у него эту магическую школу.
Кишинёвские масоны принимают эстафету от петербургских: нео-
фит со стажем (Пушкин был принят в ложу «Трёх Добродетелей»
ещё в Петербурге) уже выступает как знающий толк в орденских
таинствах молодой брат, а старшие (генералы Пущин и Инзов,
В. Ф. Раевский и другие) подыгрывают ему. В Кишинёве создаётся
ложа, где Пушкин занимает второе место после Павла Пущина (за-
очным главой стал молдавский господарь Суццо). Судя по всему,
название «Овидий» выбрано по предложению Пушкина – это един-
ственный случай названия ложи именем поэта. Собственно, ложа
де-факто так и не была открыта (хотя Пушкин в частном письме
обозначил дату приёма в неё – 4 мая 1821 года).
Пока шла переписка с петербургской материнской ложей, по-
следовали два происшествия (где Пушкин – там события), послу-
жившие поводом для закрытия кишинёвского филиала. Сначала
гоголевски-анекдотический. Во время принятия в ложу местного
иерея, слуги разнесли слух, мол “батюшку” водят с завязанными
глазами и только что проконвоировали в подвал, а это, конечно,
значит, что его изловили и собираются принести в жертву сатане.
Мгновенно собралась толпа выручать “святого отца”, дело дошло
до полиции – батюшку к его вящему неудовольствию “спасли”, но
произошёл скандал, смута, – и начальство сочло за благо прикрыть
начинание. Второе происшествие было серьёзнее и трагичнее. По
доносу с обвинением “в неблагонадёжности” был арестован
В. Ф. Раевский – член ложи, поэт, вольнодумец. Поэтическое вдох-
новение, упав на очаг вольнодумства, произвело тот всполох, о ко-
тором и было донесено начальству. Раевский, “первый декабрист”,
был заключён в застенок. Слава Богу, братья успели предупре-
дить, и самые компрометирующие бумаги были им сожжены. Но
срок был получен, правда, переписка с братьями продолжалась и
из заточенья.
Инзов (Инзушко) относился к Пушкину по-отечески: баловал,
жалел, оберегал от мести обманутых мужей. Роль Пущина в собы-
тиях зафиксировал сам Пушкин в своём известном посвящении,
написанном в июне 1821 года:
В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квирога!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмёшь во длань
И воззовёшь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинёв, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!