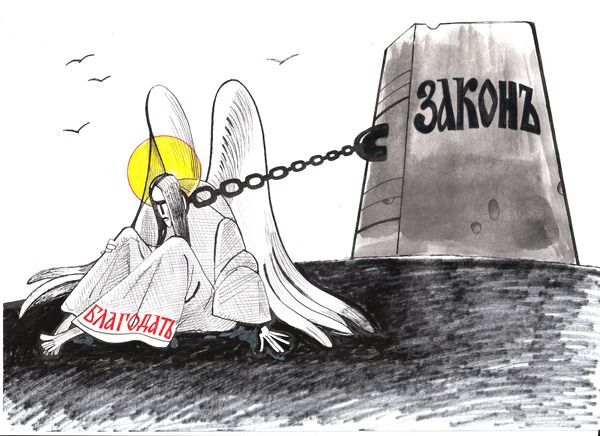На Юге происходит оставившая глубочайший след в судьбе и
мировоззрении Пушкина встреча с представителем замечательного
семейства Тучковых – Сергеем Алексеевичем, генерал-майором,
казначеем кишинёвской ложи. Произошло это во время остановки
на день в Измаиле 20 декабря 1821 года. Липранди, который со-
провождал Пушкина в этой поездке, вспоминает:
«Почтенный старец этот (в 1821 году Сергею Тучкову было 53
года – ОК), тогда ещё в сильной опале, неотменно пожелал видеть
Пушкина и просил сказать Славичу, что и он будет к нему на щи.
Вот уже собрались, но Пушкин и его два спутника пришли к само-
му обеду. Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея
Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и от-
правился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только
через 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После
ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине пасмурно-
сти; но он отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы
можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы посмотреть всё то,
что ему показывал генерал. “У него все классики и выписки из
них”, – сказал мне Пушкин».
Пушкин чрезвычайно дорожит не только гностической высо-
той, но и знаками принадлежности к ордену. В 1827 году возвра-
щённый из михайловского сиденья, которое избавило его от эша-
фотно-ссыльной участи декабристов, Пушкин был коронован как
первый поэт России и обогрет царём 2 . Тропинин, явившийся пи-
сать заказанный ему портрет Пушкина, цепким взором художника
мгновенно обратил внимание на его длинный, холёный ноготь ми-
зинца и по этому знаку, общему для всех братьев, определил ма-
сонство портретируемого. Выбор перстней, амулетов, талисманов
имел в жизни поэта тот же мистическо-знаковый характер.
Море и тень Овидия подпитали духовно и душевно Пушкина,
укрепили его дух перед лицом следовавших по пятам репрессий
(суды над Раевским и через несколько лет – декабристами). Про-
щаясь с обоими, Пушкин обнаруживает какую-то финикийскую
приверженность духу океана:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум
……………………..призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый, –
И стая тонет кораблей.
<...>
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Вспоминая описание метели («Метель», «Бесы»), гор (Кавказ-
ские стихи, «Арзрум»), ветра и моря («Шуми, шуми, послушное
ветрило» и др.) невольно приходит на ум, что Пушкин общался с
духами стихий – стихиалями, как их позднее назовёт Даниил Анд-
2 По этому поводу Пушкин предлагал именовать себя Николаевым или
хотя бы Николаевичем.
реев. Полётность – без всякой нервической взвинченности – явля-
ется одним из его характернейших качеств. Наиболее адекватно он
выразил это в двух вариантах своего рода гимна воде, каждый из
которых совершенен, а двукратность повторения темы говорит о её
первостепенной важности.
Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несёт,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждёт?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орёл, тяжёл и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона 3 .
К упомянутым природным стихиям здесь добавляются стихии
человеческих чувств и стихия поэтического вдохновения. От не-
упорядоченного произвола дело спасает система посвящений, че-
рез которую проводят человека Высшие силы в течение жизни.
Хорошо, когда она осмыслена посвящаемым, и он проходит её с
максимальной готовностью. Тогда...
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
3 Это текст первой импровизации из «Египетских ночей»; второй
вариант – XIII глава «Езерского».
Моих ушей коснулся он.
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход.
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бora глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Духовной жаждою томим... Как Пушкин мучился с этой пер-
вой – важнейшей – строкой! «Великой скорбию», – было сначала.
Выспренно, литературно, архаично. 4 Возможно, за этим стояла ре-
альная скорбь о том, что он подразумевал позже, говоря: «С каким
глубоким отвращеньем я озираю жизнь мою». Но – нет, отрица-
тельные эмоции, страх могут гнать только в лоно культа. И как
сказал великий мистик Ангел Силезиус: «Праведники почивают
спокойно, а грешник своими молитвами всю ночь мешает им
спать». Речь идёт о другом – духовном пилигримстве в поисках
истины – о том, что ставит человека на путь, дао, – а здесь уже
светит изнутри немолчное да добру, свету. И нет человеку покоя в
4 Хотя это точное начало «Pilgrim’s Progress» Баньена, что и зафиксиро-
вано Пушкиным в его переводе-переложении «Странник».
мирском, пока он не сольётся с истиной. Значит – вот оно! – ду-
ховная жажда – личное, робкое, сокровенное человека. Именно с
этим чувством вошёл поэт когда-то в посвятительный зал ложи
«Три Добродетели»... и эти добродетели не оставили его. Вера при-
вела к знанию, Надежда обернулась уверенностью, Любовь не да-
ла миновать истины. Люди, удивляющиеся силе слов «Пророка» и
списывающие всё на пушкинскую гениальность, не понимают, что
велеречивость, напыщенность и пафосность, над которыми потом
всласть поиздевался Островский в своих комедиях, обойдена Пуш-
киным не за счёт версификаторской ловкости, а за счёт подлинно-
сти переживаний.
В 1821 году в письме к П. Я. Чаадаеву Пушкин обронил –
можно сказать даже “обайронил” – фразу о своей остылой душе. И
вот пятью годами позже он вновь ощутил в груди полученный при
посвящении угль пылающий. Потому что шутейное, лёгкое, игри-
вое дело вдруг оказалось серьёзным донельзя: братья, решившие
мечты о светлом будущем претворить в жизнь, очутились кто в
тюрьме, кто на каторге, кто на эшафоте. Особенно трагична и геро-
ична участь талантливейшего Рылеева, которого, как поэта, очень
любил и ценил Пушкин. Рылеев вослед Новикову и Радищеву явил
подлинно, что значит «поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан» 5 .
И Пушкин понял, что эзотерика – это серьёзное дело.
II
Масонское братство, которое ласковой отеческой рукой пере-
правило Пушкина из суетной и развратной петербургской жизни
для поправки пошатнувшегося от «дурной болезни» здоровья на
юга, думало о созревании в покое, но в Кишинёве всё завертелось
вокруг молодого вольнодумца и стало вулканизировать, как никто
не предполагал. После истории с В. Раевским тот же синклит пере-
водит Пушкина остудиться в Псковские прохладные места, в неж-
ные моховые меха Михайловского. Наиболее влиятельные и близ-
кие Пушкину масоны из старших прибегают к педагогике строго-
5 Даже Николай I сокрушался, подписывая приговор: «Каких я и Россия
теряем людей превосходных...»
сти – Пушкин обижается, ерепенясь. Так были испорчены отноше-
ния с Карамзиным, последовавшая вскоре смерть историка прерва-
ла их вовсе. В тиши михайловского сидения у Пушкина было вре-
мя переварить впечатления бурного калейдоскопа южных событий.
«Онегин» – своеобразный творческий дневник – впитал в себя
размышления этих лет: радостные – и не очень. «Граф Нулин»
“обнулил“ всю эту убаюкивающую тряску по ухабам бытия, а
события 14 декабря 1825 года переломили жизнь пополам –
недаром номер Кишинёвской ложи был 25-м!
С середины 30-х годов тучи над головой Пушкина стали сгу-
щаться. Одиночество и никчёмность – два чувства, которые редко
охватывали поэта, пока семейственная “выводковая” жизнь не вы-
рвала его из братской среды. Тогда возникла настойчивая идея по-
бега: «... давно, усталый раб, замыслил я побег...» Здесь руку ему
подаёт другой великий духовный мастер – английский проповед-
ник и писатель XVI века Джон Баньен. Русские рыцари гнозиса
любовно перевели главные сочинения этого воплощения шекспи-
ровского типажа из обоймы «Fools of Nature», соответствующего
русскому понятию Иван-дурак. В 1818 году А. Лабзин опубликовал
биографию Баньена в послевоенной серии «Сионского вестника».
Эта публикация как раз подоспела к Пушкинской зрелости, и он
взял на вооружение духовный опыт английского учителя 6 . Обитель
тихая трудов и мирных нег оказалась в идеале Небесной Страной,
куда держит путь Баньеновский странник; здесь, на земле идеал
мгновенно прокисает “маниловской простоквашей”. Впрочем, до
конца это прояснил только М. Булгаков через сто лет. Пушкин сно-
ва заклинает, но теперь заклинает о спасении. Он прописывает-
проговаривает начало «Pilgrim’s Progress», стараясь испросить
этой формулой освобождение:
I
Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
6 Память эту Пушкин сохранил даже в покаянном «Напрасно я бегу к
сионским высотам», написанном через год после переложения Баньеновского
«Странника».
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
II
И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.
Уныние моё всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –
Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречён;
Он в угли и золу вдруг будет обращён,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе?»
III
<...>
IV
Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как раб, замысливший отчаянный побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик – влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу...