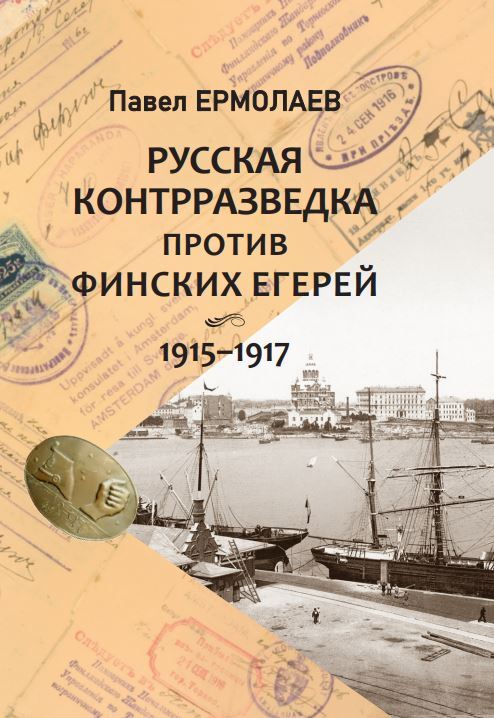Балканы. Похмелье
"В Софию я приехал 5 октября, в день объявления войны, когда празднично светило осеннее балканское солнце, и, казалось, что война состоит из песен, патриотических криков и цветов, воткнутых в отверстия ружейных дул.
Уехал я из Софии 26 ноября, когда жесткое похмелье уже вступило в свои права. 67 тысяч убитых и раненых солдат, 15 тысяч больных – до сражений у Чаталджи: таков подсчет доктора Мерваля, уполномоченного интернационального Красного Креста. А под Чаталджей легло не менее 20 тысяч душ. Итого: 102 тысячи выбывших из строя, – около третьей части боевых сил. Такие числа очень легко и просто пишутся и выговариваются, но на деле очень, очень тяжелые числа. Если уложить этих мертвых и искалеченных солдат в одну линию, то выйдет не меньше пятисот верст: первая пробитая маузеровской пулей голова ляжет у Николаевского вокзала в Петербурге, а сведенные холерными корчами ноги последнего солдата упрутся в ступени Николаевского вокзала в Москве. И это еще не конец. Тиф и холера не признают законов перемирия и неутомимо продолжают свою работу под Чаталджей.
Санитарная и, особенно, продовольственная часть поставлены у болгар отвратительно. Обольщенный легким взятием Кырк-Килиссе, Радко Дмитриев заботился только о том, чтобы весь остальной поход приблизить к типу кавалерийской атаки. Он совершенно не принимал мер к тому, чтобы установить соответствие между наступлением армии и передвижением обозов. Провиант и перевязочные материалы никогда не поспевали,и неизменно оказывались там, где в них не было нужды. Врачей не хватало, ибо чужестранцев болгары не подпускали к передовым позициям; там было слишком много такого, что приходилось скрывать от чужих глаз. Солдат, выбывший из строя, переставал существовать. Санитары были набраны из самых темных, негодных, низкопробных элементов. После первых сражений они превращались, в большинстве своем, в прямых мародеров. Во время сражения они держались вдали от боевой линии, и раненым солдатам приходилось целыми часами ползать в воде и грязи – почти все время стояли дожди – прежде, чем они добирались до перевязочных пунктов. Зато, когда стихала канонада, санитары бросались на боевое поле за добычей. Они не откликались на вопли и мольбы о помощи, а бросались на мертвых, снимали сапоги, выворачивали карманы, взрезали ножами платье. Сколько ужасов наслушался я на эту тему. Санитары пинком ноги отбрасывали протянутые к ним руки раненых, которые воспаленными губами просили о глотке воды. Один солдат в софийской больнице рассказывал, как хорошо знакомый ему санитар, из одного с ним села, рванул на нем куртку так, что пуговицы полетели прочь и стал шарить на груди и в карманах. Раненый застонал. «Я думал, мертвый», пробормотал мародер и бросился дальше. Незачем рассказывать, как «заботятся» о раненых турках. Прикалывание и прирезывание их превратилось в спорт. Один болгарский фельдшер рассказывал про другого, как тот после окончания боя отправился на охоту с хирургическим ножом в руке и с наслаждением, не торопясь, прирезывал оного раненого за другим. «Сегодня семь душ зарезал», рассказывал он, возвратясь. Истребление турецких раненых производилось систематически. Точно также поступали и с пленными. После 11-го октября, когда болгарские войска вошли в Лозенград, Радко Дмитриев отдал распоряжение: если среди пленных окажутся слабые, больные и раненые, которые будут задерживать транспорты, – принять меры к ускорению движения. Приказание было принято, как следует, и пленные на задерживали транспортов. Отправят на железнодорожную станцию 300 человек, а приходит один конвой. Где роби (пленные)? – Кто бежал, кто упал... Так триста человек и утекают меж пальцев.
В начале войны болгарский генеральный штаб неоднократно сообщал в своих бюллетенях, что турки, отступая, покидают на произвол судьбы своих раненых, и заботиться о них приходится болгарскому Красному Кресту. В Княжеве, под Софией, лежат, действительно, несколько сот раненых турок, под наблюдением отряда английского красного креста. Но за вычетом этого небольшого, на показ сервированного оазиса, где они, те многие тысячи раненых турок, о которых оповещал Европу болгарский штаб? Все они легли жертвами мер «к ускорению транспорта». Если верны были сообщения болгарских официальных бюллетеней, что раненые турки нередко убивали наклонившихся над ними болгарских санитаров, то объяснение этому чудовищному турецкому «зверству» напрашивается само собой: раненые просто защищались от санитарного ножа, занесенного над ними для последней операции.
Выше уже сказано, что болгарские раненые страшно страдали от полной дезорганизации тыловой службы. Они по четыре-пять и более дней оставались без перевязки. В ранах заводились черви. А иностранные врачи шатались по Софии без дела из кафе в кафе. «На передовых позициях у нас своих врачей довольно», отвечал приезжим доктор Малов, заведующий болгарским Красным Крестом. По три дня раненые оставались в дороге без всякой пищи, без куска хлеба. Один интеллигентный ополченец, охранявший железнодорожное полотно за Ямполом, рассказывал мне, как сотня раненых, голодавшая трое суток, поела сырой и недоваренной пшеницы: большинство погибло в страшных желудочных страданиях. Много, очень много таких рассказов передавалось из Софии за последнее время из уст в уста. Под Чаталджей погибает ежедневно 25-30 человек от холеры. В то время, как дипломаты съезжаются в Лондон, чтобы прикинуть на счетах кровь и срам войны, болгарская армия остается у Чаталджи – вместе с тифом, дизентерией, ревматизмом, холерой и вшами.
Вошь – это страшная вещь, – рассказывал мне накануне моего отъезда один интеллигентный болгарский доброволец, по болезни вернувшийся в Софию, – это может быть самая страшная вещь на войне. Не моешься неделями, не меняешь белья, спишь в сапогах и шинели, все насквозь мокрое, гнилое, вонючее. Вошь облепляет тебя со всех сторон. Это – страшная, страшная вещь. Гниешь заживо. Когда в походе или под огнем, еще ничего. А ночью невыносимо. Особенно памятна мне она ночь: шли спешно, по ночам тревога. На третью ночь бы отдых. Лежали мы в одной избе, покинутой, человек двадцать пять нас было. Усталость была неописуемая, каждый вершок тела хотел спать до смерти. Отогрелись мы в грязных своих отрепьях, – вошь зашевелилась. Что это за мука, господа, что за мука. Ты уже не свой, а их. Истребляют тебя со всех сторон одновременно... Я, признаюсь вам, плакал, как ребенок, – от бессоницы, стыда, унижения и обиды. Нельзя так поступать с человеком, с телом человеческим. Нельзя... Это подлость!.. Если б этих международных дипломатов, которые ежедневно принимают душистую ванну, если б их на три дня, только на три дня, посадить в такие мокрые, разваливающиеся вшивые лохмотья, – какая это была бы для них спасительная школа.
Нехорошие вести пошли и из завоеванных провинций. Вначале сообщали только о радостных кликах освобожденного населения, о патриотических речах, депутациях, о новоназначенных администраторах. Но радостные клики и патриотические речи замолкли, – остались хаос и безурядица .В Македонии и до войны было достаточно элементов социального распада и политической анархии. Четничество и динамитное партизанство дало этим элементам боевую выправку и привило уверенность в том, что им все позволено. Война временно растворила их в себе. А теперь они снова всплыли, насквозь развращенные войной.
В мои руки попала копия письма одного чиновника, посланного в Иштиб организовать отделение национального банка. Письмо так красноречиво, что я привожу его целиком.
«Прибыл я четыре дня тому назад и уже жалею, что поехал. Застал сплошной ужас. Мне и не снилось никогда, что подобное возможно. В городе в 6 часов вечера все тушится. Турецкие и еврейские дома, то есть, полгорода, совершенно пусты. Все магазины и дома в этой части разграблены и даже разрушены. Грабежи и убийства следуют непрерывно. На моих глазах 2-го ноября, в обед, 20-25 четников и босяков напали на старика-еврея, лет 60-70 и разбили ему голову. Я вмешался, стал звать пристава. «Держи его, и он жид»! Погнались за мной, пришлось бежать. Укрылся я в своей квартире, на 2-м этаже, вынимаю револьвер, то же делает и хозяин квартиры. Громилы начинают стучаться в ворота, но ворота крепкие. Жена моя, оставшаяся за воротами, пыталась скрыться в подвальном этаже;но заметив, что меня нет, бросилась искать. После непродолжительной осады, громилы удалились. Я послал за городским головой, уездным начальником, приставом и воеводой четы. К часу собрались в доме у меня 12-15 человек «начальства». Без труда устано <...>. Однако никто из них не был наказан. Войска здесь нет и эти «четники» – полные хозяева положения. Есть воеводы, которые награбили за это время вещей и денег на 3-4 тысячи лир (турецкая лира - 23 франка). В Радовише подозревают, что в эту компанию входит и околийский начальник (исправник).
Ужасное положение! Иногда смотришь, как этих мирных крестьян-турок убивают без причины, как их вещи разграбляются, а жены и дети помирают с голода, – и сердце прямо разрывается от скорби. Между Радовише и Иштибом умерло около 2.000 турецких беглецов, преимущественно женщин и детей, от голода, в буквальном смысле слова от голода...»
Семидесятилетний старик с пробитой головой, тысячи женщин и детей, гибнущих от голода, революционные четы, выродившиеся в разбойничьи банды, околийский начальник, как патрон громил, – такова картина общественной жизни в освобожденной провинции. Попадая в эту атмосферу, новые администраторы далеко не всегда проявляют катоновские доблести. Пределы произвола слишком неограниченны, возможность быстрой наживы слишком заманчива. «Передай, – пишет один чиновник другому, – что тут можно дешево купить землю, особенно в Овчем поле.» Турки бежали, покинув свои владения, и расхищение турецких земель пойдет теперь во всю. Предусмотрительные люди уже отправились на новые места – присматриваются, принюхиваются. Многие болгарские солдаты, не без внушений сверху, вообразили, что покинутые земли достанутся им. Во время дневок они высматривали себе подходящие места и делали свои приметы... Ошибутся солдатики. Они принесут с собой из похода пару турецких безделушек, да искалеченную руку, да жестокий ревматизм на всю жизнь. Земли достанутся чербаджиям, богатеям да предусмотрительным политикам. Пока установятся новые владения и закрепятся «неприкосновенные» границы собственности, пройдет, однако, немало времени, развернется жестокая гражданская война, в которой четники еще скажут свое последнее слово... А водворение «порядка» в покоренных провинциях ляжет прежде всего новыми тяготами на трудящееся население Болгарии."
Л. Янов. «День».
«Мусульманская газета» №7 от 23 января 1913 года