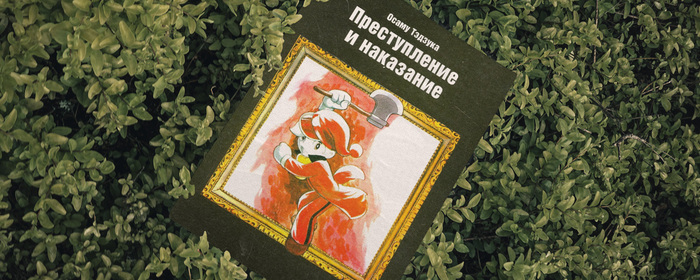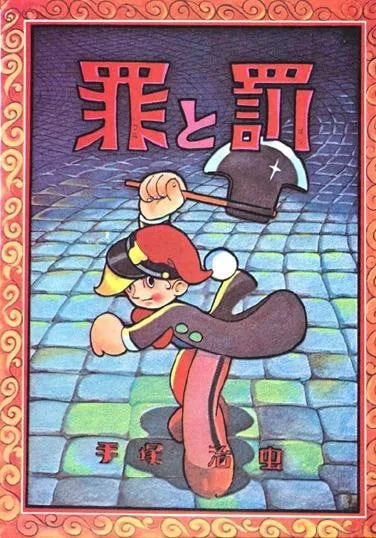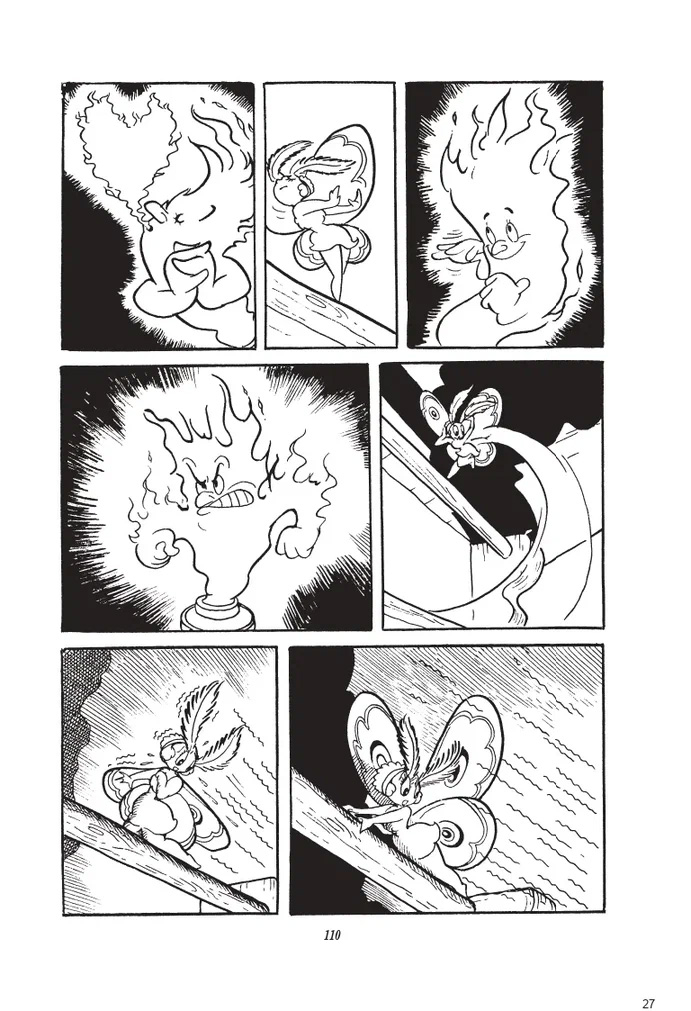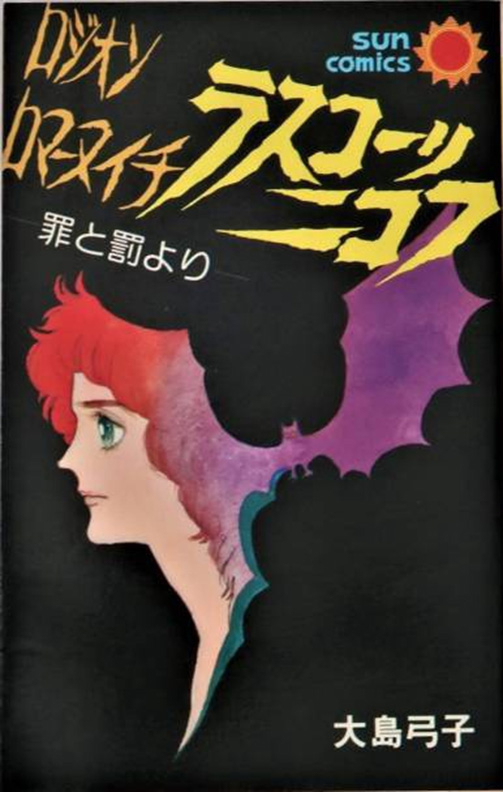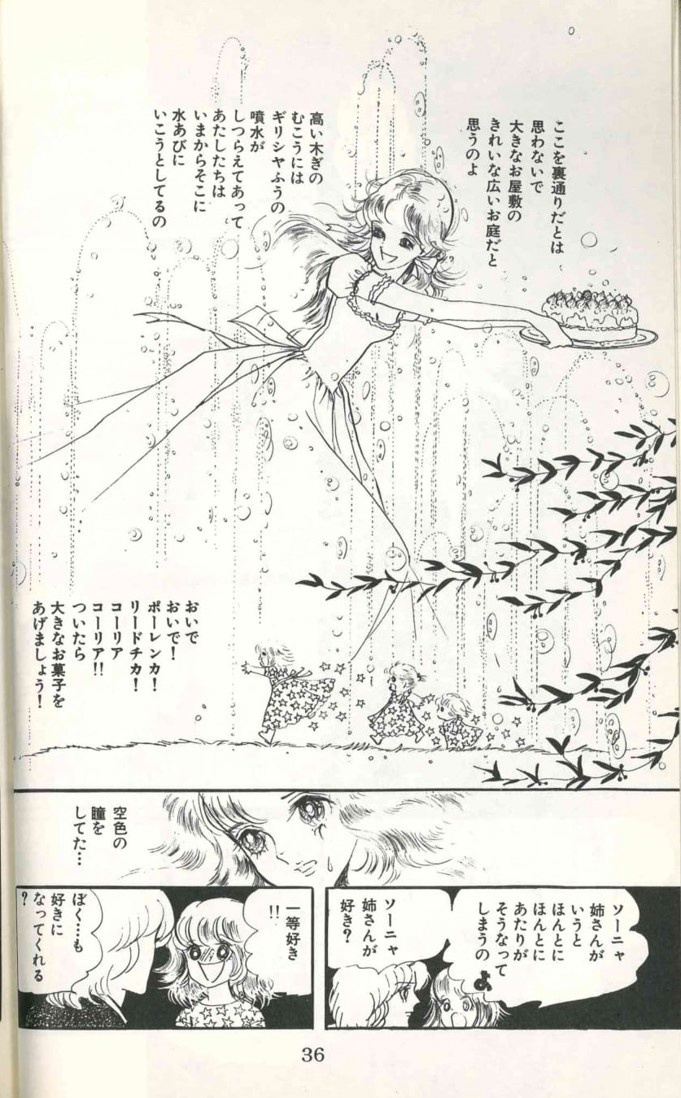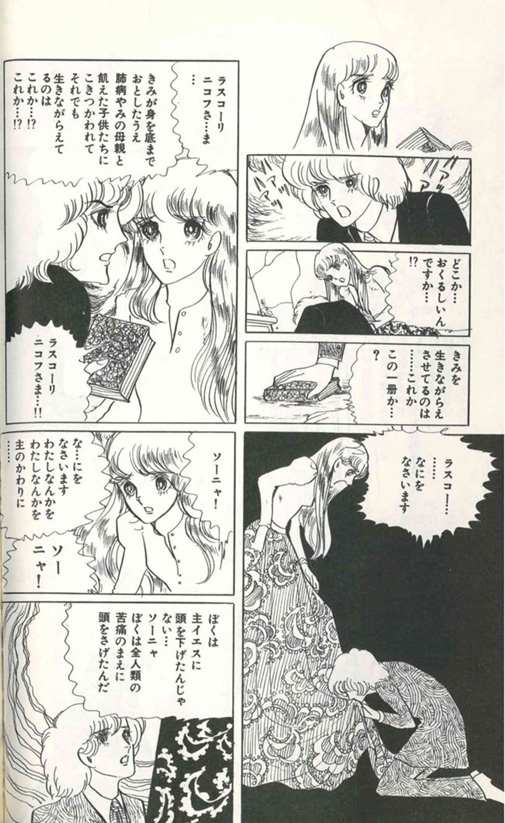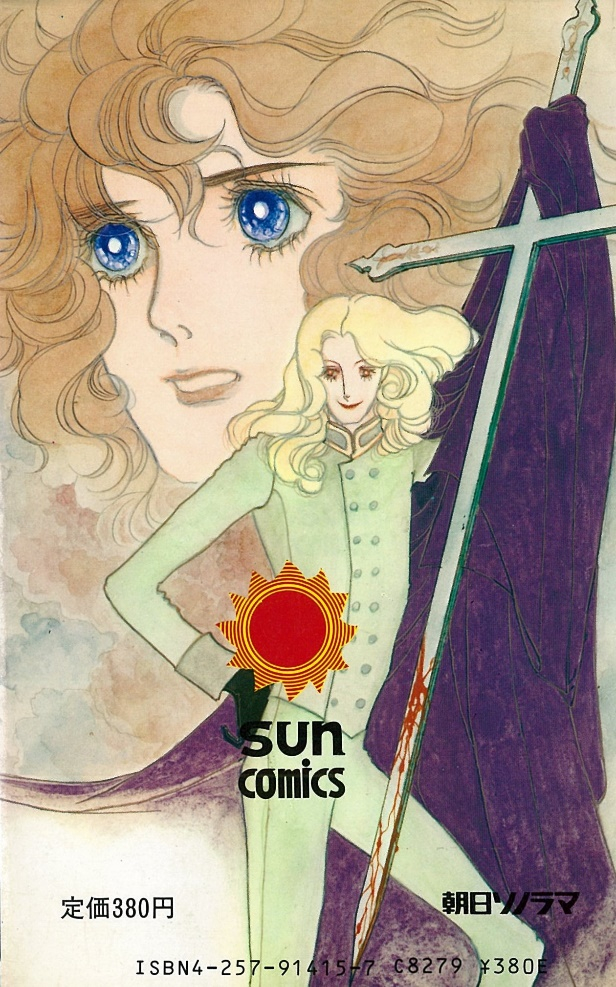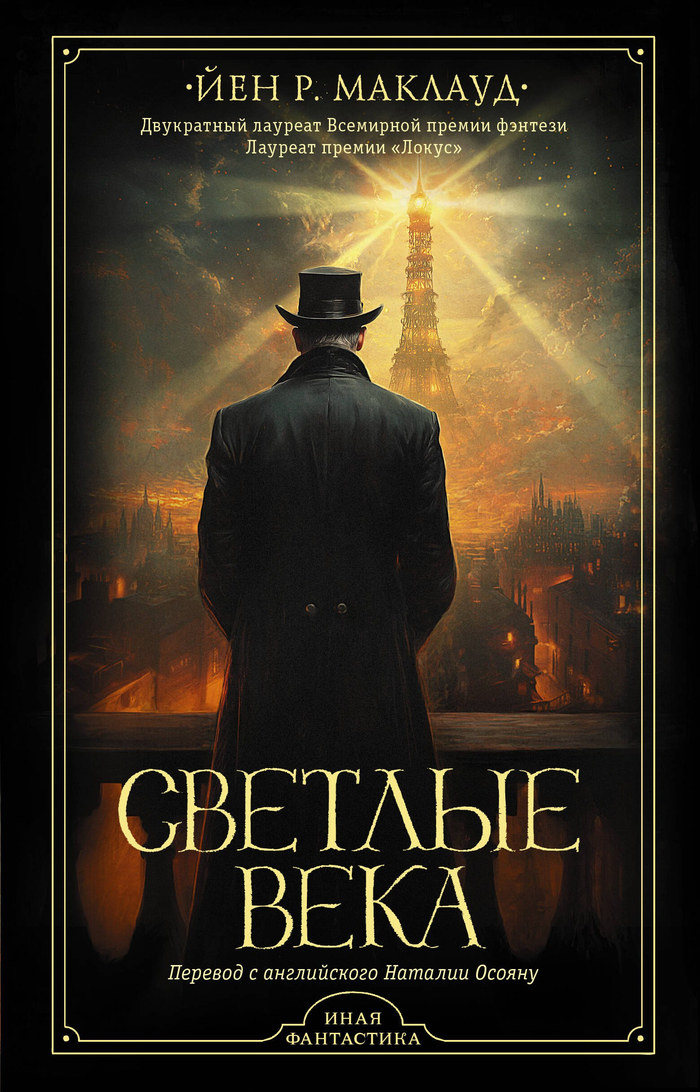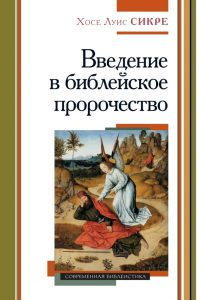Творцы богов - Как и зачем писатели разных эпох придумывали собственные «религии»
В какой момент даже глубоко верующие писатели-христиане обратились к критике церкви и начали в порядке сатиры придумывать собственные «идеальные» религии? Почему в огромной вселенной Толкина есть всё, кроме веры? Об этом и многом другом Александра Полева узнала из курса лекций историка и религиоведа Константина Михайлова «Творцы богов и религий».
Революция Томаса Мора
В эпоху европейского Средневековья религия являла собой нечто цельное, что принималось как данность и не подлежало разделению и пересмотру. Все меняется в период религиозных войн, когда в Европе появляются революционеры мысли и интеллектуалы-смутьяны, поставившие под сомнение систему верований. Выделяется два направления — мифотворчество «не всерьез» и переосмысление уже имеющейся религии. Последним занимался Джордано Бруно. А мифотворчеством, в свою очередь, увлекся Томас Мор, выдумавший собственную религию, которую изложил на страницах художественного текста — «Утопии».
Изначально «Утопия» сочинялась как дружеская шутка для круга интеллектуалов — друзей Мора. Об этом свидетельствует даже название произведения. Дословно оно звучит так: «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Сочетание «золотая книжечка» отсылает к «Золотой легенде» Иакова Ворагинского — собранию христианских легенд и житий святых (католический супербестселлер позднего Средневековья). «Утопия» же переводится с греческого как «не-место» или «отсутствующее место».
Произведение представляет собой рассказ путешественника Гитлодея, чье имя можно перевести как «опытный болтун», о гуманных и разумных законах и традициях далекого государства. После выхода «Утопии» многие писали Томасу Мору с просьбой предоставить доказательства существования описываемого государства, в ответ на что автор рекомендовал найти Гитлодея и спросить у него об этом лично.
Последняя глава книги называется «О религии утопийцев», где Мор придумывает и описывает целые семейства религий:
«Религии утопийцев отличаются своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают как бога солнце, другие — луну, третьи — одну из планет. Некоторые преклоняются не только как перед богом, но и как перед величайшим богом, перед каким-либо человеком, который некогда отличился своею доблестью или славой. Но гораздо большая и притом наиболее благоразумная часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своею громадою, а силою: его называют они отцом».
Религий много, но все они мирно сосуществуют друг с другом и ни одна из них не запрещена. Можно быть даже атеистом, хотя их не назначают на государственные должности. Допустимо обращать в свою веру, но делать это следует лишь словом, без насилия. Храмы общие для всех религий. Существуют и религиозные споры, например о том, есть ли у животных душа. Но такой плюрализм мнений естественен, и те, кто полагает, что душа у животных есть, просто придерживаются вегетарианства.
При создании системы верований утопийцев Мор вдохновлялся античной философией, а также руководствовался личными убеждениями, порой весьма революционными (например, в Утопии священниками могут становиться и женщины). Однако английский философ не ставит перед собой задачу сконструировать идеальную религию. Совершенно общество утопийцев, но не их вера. Мор — убежденный христианин. Он был аскетом и даже думал уйти в монастырь. Поэтому автор прямо пишет о том, что, узнав о христианстве от заезжих путешественников, утопийцы с охотой меняют веру. Тем не менее их религии все же мудры, честны, а священники пользуются всеобщим уважением.
Томас Мор, глубоко верующий, благочестивый христианин, разрушил стену, которая до этого окружала религию, сохраняя ее святой и неприкасаемой. Он первый посмотрел на веру как на художественный образ, и это оказало огромное влияние на всю последующую массовую культуру.
Смертельно опасная шутка
Над религией шутили всегда, в том числе и в эпоху Средневековья — в рамках допустимой критики церкви и без атеистических откровений.
Франсуа Рабле не был атеистом, хотя сложно точно определить, к какому течению он принадлежал. В юности он постригся в монахи, но через несколько лет ушел из монастыря, навсегда сохранив в себе нелюбовь к этой форме религиозной общины. В 1540-х годах, когда уже был опубликован «Гаргантюа и Пантагрюэль», французский писатель стал католическим священником и занимал пост викария почти до самой смерти, однако к соблюдению религиозных догм относился весьма непринужденно.
Как и в «Утопии», в «Гаргантюа и Пантагрюэле» описывается своего рода идеальное государство под руководством мудрых и симпатичных, хотя и довольно прожорливых правителей-великанов. И вдруг посреди шутовства и карнавализации возникает образ идеального Телемского аббатства, которое содержит Гаргантюа, по совместительству еще и король Утопии (явная отсылка к Томасу Мору). На его примере Рабле стремится создать не саму религию, а новую идеальную религиозную организацию (сказывается, видимо, болезненный юношеский опыт пребывания в одной из них).
Внешне Телемское аббатство напоминает обычный монастырь. Там есть свой комплекс зданий, имеется братия, мир общины замкнут. Однако по своему внутреннему содержанию оно разительно отличается. Оттуда в любой момент можно уйти (опять отголоски личного опыта Рабле), там можно крутить романы, танцевать, петь и даже не молиться:
«Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их собственной доброй воле и хотению. Вставали они когда вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится; никто не будил их, никто не неволил их пить, есть или еще что-либо делать».
При подробном описании Телемского аббатства и образа жизни в нем нигде не упоминается Бог. Там его попросту нет. Более того, священники туда тоже не допускаются:
Идите мимо, лицемер, юрод,
Глупец, урод, святоша-обезьяна,
Монах-лентяй, готовый, словно гот
Иль острогот, не мыться целый год,
Все вы, кто бьет поклоны неустанно,
Вы, интриганы, продавцы обмана,
Болваны, рьяно злобные ханжи, —
Тут не потерпят вас и вашей лжи. <...>
Да защитит вас наш надежный кров
От злых попов, кто яд фальшивых слов
Всегда готов вливать в сердца людские.
По сути, Рабле описывает религиозную форму, начисто лишенную религиозного содержания. И это возымело большие последствия на массовую культуру: создатели «Утопии» и «Гаргантюа и Пантагрюэля» через свои тексты помогли европейцам увидеть и осознать разницу между религиозной формой и религиозным содержанием. Люди стали задаваться вопросами, зачастую нежелательными для церкви.
Критики клерикализма XV века могли обвинять церковь в жестокости, алчности, коррупции, ереси, смертных грехах и даже в поклонении Сатане. Но до XVI столетия никто и не думал обвинять священников в атеизме. Теперь эта мысль появляется не только в умах отдельных личностей, но и преобразуется в сформулированный вопрос в общественном сознании. Европейцы массово обнаруживают, что можно вести себя как религиозный человек, но не быть верующим. Если философ может выдумать культ и религию для иллюстрации своих идей, то не поступают ли так и сами священники? Именно из этих идей вырастет впоследствии образ церкви-манипулятора и церковников, которые морочат людям головы.
В эпоху Просвещения религиотворческую эстафету перенимает Джонатан Свифт. Священнослужитель и убежденный христианин, он писал проповеди и сатирические тексты, посвященные религиозным вопросам («Сказка бочки», «Рассуждение о неудобстве уничтожения христианства в Англии»).
В «Путешествиях Гулливера» Свифт создает и отдельные религии со своими храмами и жрецами в Лилипутии и стране великанов Бробдингнеге. Лилипуты ведут внешние и внутренние религиозные войны, устраивают массовые казни, а в какой-то момент жертвой этих распрей едва не становится и сам Гулливер.
В самом же мудром и опять-таки «идеальном» обществе — обществе гуигнгнмов, разумных лошадей — никаких верований и богов нет. Почему? Возможно, по мысли автора, в совершенном обществе организованная религия не очень-то и нужна, однако прямо об этом нигде не говорится. Зато, когда Гулливер рассказывает лошадям о своей родине, Свифт приводит примеры бессмысленных, с его точки зрения, но реальных богословских споров:
«Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Споры о том, является ли тело хлебом или хлеб телом; что лучше: целовать кусочек дерева или бросать его в огонь; какого цвета должна быть верхняя одежда: черного, белого, красного или серого, и так далее — стоили многих миллионов человеческих жизней».
Здесь Свифт делает уже следующий после Рабле шаг и разбирает не только внешние, но и глубинные богословские элементы христианской традиции. Но он не собирается отменять церковь — он хочет прекратить насилие. И такие маленькие, на первый взгляд, сатирические эпизоды оказываются совершенно переворачивающими европейское сознание.
Так вымышленные религии постепенно становятся орудием внешней критики. Они заставляют взглянуть на имеющееся положение вещей под новым углом и увидеть абсурдность и комичность обрядов, бессмысленность богословских споров.
Смех — один из самых сильных способов расколдовывания мира, одно из самых мощных оружий в борьбе со страхом, неизведанным — с тем, на чем и произрастает религия, что использует в своих целях. Она умело адаптирует почти все наши чувства и переживания под себя. Но юмор ей не подвластен. В священных текстах можно найти остроумную игру слов, яркие афоризмы, но шутки там не встречаются почти никогда. И именно шутка делает церковную власть менее сакральной.
Не разумный замысел
Основной темой сатириков и утопистов XVI–XIX вв. была тема внутреннего религиозного спора. Однако в ХХ столетии это уже не так актуально. Утопии преобразуются в антиутопии, а людей интересует не просто религия как таковая, а ее взаимоотношения со светским миром. И книги вновь становятся прекрасным полем для экспериментов и изучения этого вопроса на безопасном (казалось бы!) пространстве.
В дивном новом мире Олдоса Хаксли главным объектом поклонения является Форд, а фордизм — квазирелигия со всеми присущими ей атрибутами. В Лондоне будущего, описанном в романе, отмечается День Форда, существует фордистская церковь, люди говорят: «Слава Форду!», новая эра отсчитывается от появления «Форда Т» (модель автомобиля), а в качестве молитвенного жеста люди осеняют себя «знаком Т». Во время фордослужения (пародия на литургию) люди поют «песни единения» и передают по кругу чашу с сомой, наркотическим веществом, расслабляющим и вызывающим приятные галлюцинации («Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса»).
Зачем же Хаксли понадобилось создавать религию в нерелигиозном, по сути, пространстве произведения? До 1930-х годов, когда писался «О дивный новый мир», религия воспринималась как часть духовной жизни, как особый концепт (и неважно, как к нему относились). Фордизм же — это сатира на общество потребления, частью которого становится и вера. Хаксли показывает, что в религии нет ничего особенного. Сома и та может быть более эффективна для управления массами. Религия одурманивает людей, однако как форма идеологии она оказывается очень даже действенной и прежде всего потому, что не запугивает, а увлекает.
Боконизм, вымышленная религия из романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки», стала одной из самых известных литературных религий, а само произведение напоминает историю религиозного обращения. В самом начале главный герой — неверующий «грешник», но в конце он становится убежденным боконистом. Однако сама религия строится сплошь на лжи и выдумках. Первая и главная максима Боконона звучит так: «Все истины, которые я хочу вам изложить, — гнусная ложь».
Боконизм, по словам Константина Михайлова, «серьезная религия, сочиненная двумя людьми с хорошим чувством юмора — самим Воннегутом и персонажем его книги Лайонелом Бойдом Джонсоном (Бокононом)». И уже в самой ее основе скрыто противоречие, поскольку богословие очень плохо сочетается со смехом. Цель этой религии — поддержать жителей острова Сан-Лоренцо, живущих впроголодь в чудовищной нищете. Они знают, что история гонений против Боконона частично срежиссирована самим Бокононом, но такое положение вещей их отнюдь не смущает. Религия находится на острове под запретом, и именно по этой причине островитяне исповедуют боконизм. Он не подразумевает поклонение богу и, более того, даже не предполагает, что в чем-то есть смысл:
«И бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: „А в чем смысл всего этого?“
— Разве у всего должен быть смысл? — спросил бог.
— Конечно, — сказал человек.
— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал бог и удалился».
Боконизм находит свое продолжение и в реальной жизни. В 2005 году американский физик Бобби Хендерсон в ответ на предложение о преподавании в школах «разумного замысла» наравне с теорией эволюции написал в департамент образования штата Канзас знаменитое письмо. В нем говорится о Летающем Макаронном Монстре, который создал Вселенную, начав с горы, деревьев и... карлика. Казалось бы, при чем тут последний? Однако карлик был удостоен таким вниманием именно из-за Воннегута. Один из героев «Колыбели для кошки», лилипут, заявляет, что ему обидно, что ни одна религия, кроме боконизма, не упоминает лилипутов и карликов. И это не говоря о том, что боконизм вместе с пастафарианством (как раз с тем самым Летающим Макаронным Монстром) и джедаизмом стал для многих альтернативным религиозным самоопределением.
«Гоблинами с эльфами в миру мы населяем каждую дыру»
Сатирики и (анти)утописты создавали религии, чтобы заставить читателей улыбнуться и задуматься. Чисто же художественный подход начинается, скорее всего, с Уильяма Блейка. Он с юности придумывает собственную мифологию, отраженную в трех книгах: «Книга Уризена», «Книга Ахании» и «Книга Лоса». Согласно им, высшие силы создают первого универсального и идеального человека Альбиона, который вмещает в себя все будущие народы. В какой-то момент его убивают, и он распадается на четыре самостоятельных начала — воплощения разума (Уризен), страстей, тела и воображения. Разум пытается создать мир, но его недостаточно для творения. И тогда ему на помощь приходит Лос — воплощение творчества.
Так начинается большая мифология Блейка. Ему нравится сам процесс ее создания, он относится к этому как к игре. Говоря о вымышленных религиях первой половины ХХ столетия, очень важно разделять два направления — перелицованное христианство, поданное под фэнтезийным соусом, но с тем же педагогическим замыслом (например, «Хроники Нарнии»), и, собственно, верования, выдуманные исключительно для самого произведения и имеющие лишь художественные цели. В рамках последнего творят Джон Толкин и Говард Лавкрафт, создавшие целые сеттинги с собственной мифологией, которая пронизывает все их произведения.
Однако в тщательнейше проработанном мире «Властелина колец» встречается только один эпизод, связанный с мифологией Средиземья. Это битва Гендальфа и балрога в Мории. Но о том, что они полубожественные персонажи, что великий волшебник был убит, предстал перед судом высших сил, а затем «переродился» и вернулся обратно, — обо всем об этом можно узнать лишь при углубленном изучении романа со всеми комментариями и заметками автора, а также из текстов «Сильмариллиона».
Почему же Толкин, специалист по Средневековью, автор, который с такой скрупулезностью создавал свой мир, «забыл» рассказать о религии в Средиземье? По мнению исследователей, отсутствие какой-либо веры во «Властелине колец» и есть главный миф. Сам Толкин в одном из интервью определял Средиземье как мир до прихода Спасителя, и его отсутствие прямо выражено в тексте. Религиозной истины в этом мире нет, поэтому и говорить не о чем.
В «Сильмариллионе» мы находим полноценный пантеон с историей творения мира и героических свершений. Но о какой религии идет речь? Поначалу кажется, что это типичная языческая мифология индоевропейского типа. Однако при более углубленном изучении становится ясно, что этот пантеон совершенно не подчиняется классическим правилам. Во-первых, в нем обнаруживается дуализм. У валар, духов, правящих миром, есть предводитель Манве, у которого, в свою очередь, есть брат Мелькор, главный отрицательный персонаж. И они оба участвуют в творении мира. Во-вторых, Мелькор оказывается могущественнее своего брата, что уже нарушает и традиционное язычество, и дуализм. В-третьих, там есть творец мироздания Эр Илуватар, который и вовсе действует как монотеистический Бог. Мелькор восстает против него и оказывается кем-то вроде Сатаны. Но к Эру Илуватару, всесильному творцу, прилагается еще и компания других божеств, которые тоже могут сотворять живых разумных существ (и вновь отсылка к язычеству). Помимо богов, есть и еще другие волшебные персонажи — Гэндальф, Саруман, балроги, Саурон. Все они могут вмешиваться в жизнь людей, но вот смысла молиться им как будто бы нет: просьбы все равно не будут услышаны или исполнены.
У Лавкрафта миром управляют Древние. С точки зрения персонажей, населяющих лавкрафтовскую вселенную, Древние — это боги. Но на самом деле они могут быть пришельцами с других планет или из других измерений. И прототипы, как и у Толкина, имеются далеко не у всех.
Объединяют миры английского и американского писателей вездесущие тени. Тень сгущается над Иннсмутом, тень распространяется из Мордора. Она может изменять пространство, она развращает людей. Но в то же время дает необыкновенное могущество, поэтому главное испытание героев — это вовсе не столкновение с внешними монстрами, а борьба с тенью внутри себя. И герои постоянно проигрывают. Только если у христианина Толкина в мире, где пока еще нет Творца, остается надежда (даже когда, казалось бы, все совсем плохо, могут внезапно прилететь орлы и спасти героев), то у атеиста Лавкрафта царит безнадега. Христианство — не более чем благочестивый миф, зато Древние, которые всех уничтожат, самые что ни на есть настоящие. Мир обречен, и это просто надо принять.
Толкин и Лавкрафт сделали огромный прорыв в своей области и буквально открыли двери другим писателям. Идея создания определенных верований из литературной игры стала массовым увлечением. Выдуманные религии вышли далеко за рамки своих произведений и зажили самостоятельной жизнью.
Плеяда избранных
На первый взгляд, главные герои «Дюны» Фрэнка Герберта и «Чужака в стране чужой» Роберта Хайнлайна разительно отличаются друг от друга: Пол Атрейдес — юный аристократ, поднимающий туземцев на мятеж против ужасных местных властей, а Майкл Смит — кто-то вроде миролюбивого Маугли, вернувшегося с Марса. Однако их образы несут в себе схожие идеи. Оба фантастических романа рассказывают историю мессии-пришельца, чужака, оказавшегося в новой для него среде.
И Герберт, и Хайнлайн скептично настроены к организованным религиям и считают, что это всегда манипуляция, а старые лидеры используют веру людей для достижения своих политических целей. В противовес этому оба автора на глазах у читателя конструируют новые культы вокруг главных героев. Но ведут их разными путями.
Пол Атрейдес не хочет быть мессией. Религия же, выстраивающаяся вокруг него, похожа на несколько упрощенный ислам. И незаметно сюжет трансформируется из частного конфликта между аристократическими семьями в джихад, священную войну. В конце концов герой принимает функцию махди, мессии. И хотя поначалу Пол Атрейдес кажется читателю положительным персонажем, в итоге он бросает мир в огонь тотальной войны, что делает его образ уже не столь однозначным.
Первая половина романа «Чужак в стране чужой» посвящена тому, как Майкл Смит разбирается с базовыми вещами человеческой культуры. Бывший марсианин даже к силе земного притяжения не привык, что уж говорить о языке, нравах, обычаях и даже грубости жителей нашей планеты. В итоге Майкл создает свое учение, основанное на взаимопонимании и отсутствии иерархии. Главный герой стремился к гармонии и хотел всячески ее приумножить. И хотя Майкл Смит не начинает войну, в конце книги его все равно убивают. Он, как и Пол Атрейдес, пророк поневоле.
Оба романа взбудоражили западную публику, а выдуманная Хайнлайном Церковь всех миров и вовсе возникла впоследствии в реальном мире. Образы Майкла Смита, Пола Атрейдеса, а также Арагорна из «Властелина колец» заставили людей заговорить об избранных, что отразилось во многих современных религиозных течениях, в том числе нью-эйдж. В них говорится о том, что некоторым (или даже каждому из нас) уготована особая судьба, что мы можем развить сверхъестественные способности, перестроив свое сознание.
Расколдованный мир
Одна из ярчайших книг современности, сильно повлиявшая на всю массовую культуру, герои которой вышли далеко за пределы ее страниц и воплотились во множестве самых разных франшиз, — это, конечно, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. И ее герой подчеркнуто нерелигиозен. Каких-либо отсылок к христианству и Роулинг довольно мало, и в основном они косвенные. Это праздники (Рождество и пасхальные каникулы — даже не сама Пасха), наличие у Гарри Поттера крестного отца Сириуса Блэка, обитающий в Хогвартсе Толстый Монах и библейские цитаты на надгробиях родителей Гарри Поттера и семьи Дамблдора.
Однако серию романов объединяет один лейтмотив, который хоть и менее явно, но все же хорошо считывается (пусть и на подсознательном уровне). Гарри Поттер — избранный. Тут заметно влияние как прошлых культурных традиций, так и нынешнего мейнстрима, вышедшего за пределы литературы (например, Нео из «Матрицы» и Люк Скайуокер из «Звездных войн»). Но и сама по себе тема избранничества и чудесных детей уже отсылает к Христу. В соответствии с диккенсовскими традициями Гарри Поттер должен страдать, пока не встретит странных или чудаковатых персонажей, которые возьмут его под опеку. Потом ему предстоит пройти внутренние испытания — искушение дурными поступками. И в итоге спасти мир (это задача вообще любого избранного). В конце Гарри Поттер даже позволяет себя убить, но затем воскресает.
Подобное жизнеописание можно найти и у других современных персонажей. Например, у Супермена из комиксов DC. Чудесный ребенок становится сиротой и попадает в чужую семью, где воспитывается, взрослеет, учится преодолевать трудности. Затем у него обнаруживаются сверхспособности, он покидает дом, сражается со злодеями, спасает мир. В конце герой сталкивается со смертью, но затем воскресает, отсылая нас все к тем же библейским мотивам.
Еще одно любопытное для исследования современное произведение — «Сумерки». Точнее, даже не сама сага, а тот образ вампира, который в ней создается. Вампир — это почти вечное тело без души (как противопоставление вечному духу и умирающему телу в христианстве). И первые подобные существа были настоящими монстрами. Однако со временем их образ пересматривался, и они становились все более неоднозначными персонажами (вспомните «Интервью с вампиром» Энн Райс), пока не превратились в практически святых, как, собственно, Эдвард Каллен в «Сумерках».
Это возможно из-за того же снижения роли религии в пространстве литературных произведений. Там, где есть христианство, вампир по необходимости будет плохим. Но стоит религии отойти на второй план, как образ закоренелого злодея начинает трансформироваться и переосмысляться.
Тенденции и проблемы массовой культуры всегда находят свое отражение в художественных текстах. Сейчас наблюдается резкий рост ценности индивидуума, мы стали внимательнее относиться к проблемам нашей психики. Это хорошо согласуется и с ключевым мифом нью-эйджа — мифом о раскрытии внутреннего потенциала. Даже Фродо еще не вступает на этот путь, хотя, безусловно, меняется в ходе повествования. А вот Гарри Поттер уже раскрывает свои способности в полной мере. Это и отличает современные произведения от классических романов воспитания, на которые они внешне могут быть похожи: саморазвитие в жизни (по крайней мере, с точки зрения современных взглядов) никогда не заканчивается.
Современные художественные тексты уже не нуждаются в религии (или как минимум не так сильно нуждаются, как раньше). Наше общество расколдовано, а с функциями богов и мифических героев вполне справляются другие персонажи (тот же Супермен умеет делать все, что делают языческие боги, и почти все, что делает Бог-Творец).
«Мы не рассматриваем мифопеи как важный образ мышления, — подытоживает свой курс лекций Константин Михайлов, — а зря! В конце концов, любая религия — это нечто изначально вымышленное, трансформирующееся в веках, обрастающее новыми образами и расширяющееся. Современные мифы не столь кардинально отличаются от старых. Просто мы настолько привыкли к ним, что уже не обращаем внимания на то, что они меняют наше сознание. Как именно? Увидим в будущем».
Прим. авт.: Эта статья ни в коем случае не претендует на полный и подробный конспект лекций Константина Михайлова. Для более глубокого погружения рекомендую самостоятельно ознакомиться с первоисточниками.
Источник: https://gorky.media/context/tvorcy-bogov