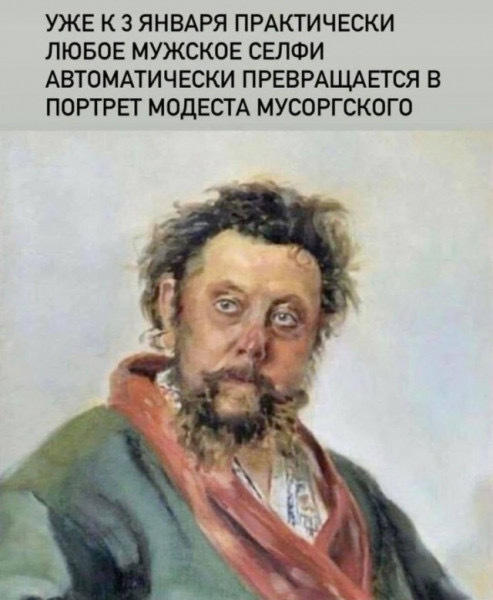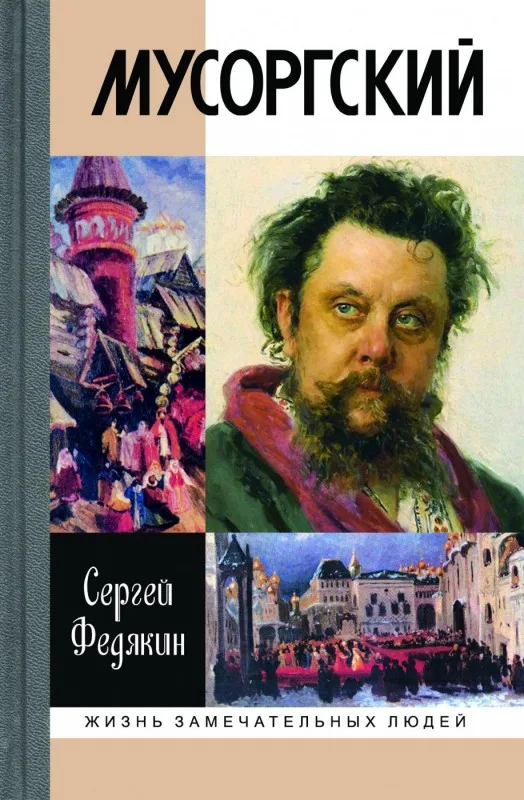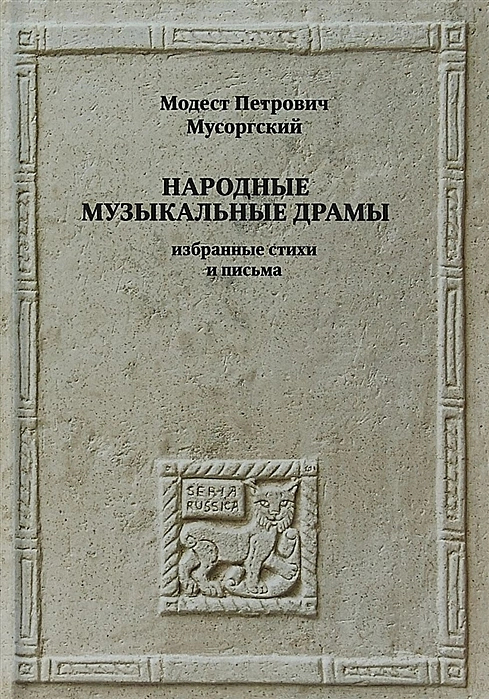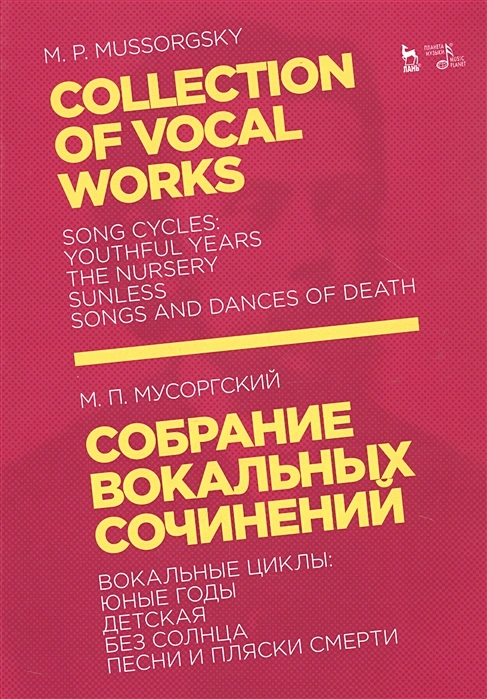Neural Network Pictures from an Exhibition: Классика в цифровом отражении
Введение: Когда нейросети слушают Мусоргского
Музей имени Глинки предложил смелый эксперимент: взять бессмертный цикл Мусоргского «Картинки с выставки» — музыку, знакомую даже тем, кто далёк от классики, — и пропустить её через призму искусственного интеллекта. В рамках конкурса студенты Школы Дизайна НИУ ВШЭ, изучающие курс «Экспериментальная музыка», создавали современные интерпретации знаменитых пьес с помощью нейросетей.
Этот проект — три электронных трека, рождённых на стыке двух эпох:
«Gnomus» — механический гротеск,
«Tuileries» — цифровая ностальгия,
«Baba Yaga» — синтетическая ярость.
Ни ремейк, ни пародия, а диалог — где нейросети не заменяют Мусоргского, а становятся его неожиданными соавторами.
Глава 1. Gnomus: Щипцы для орехов в эпоху алгоритмов
От эскиза Гартмана к цифровому гротеску
Оригинальная пьеса «Gnomus» была навеяна эскизом Гартмана, изображавшим ёлочную игрушку — щипцы для орехов в виде гнома. Мусоргский превратил этот образ в хаотичный, почти пугающий музыкальный портрет.
Как звучит ИИ-гном?
Нейросеть Udio получила промпт: «механический гном, скрипящий шестернями, диссонансный, но с отзвуками старого пианино».
Сгенерированные фрагменты были обработаны в Ableton Live: замедлены, искажены, превращены в ритмические лупы.
Иллюстрация для обложки (созданная в Leonardo.ai) стилизована под гравюру, но с цифровыми артефактами — будто гном провалился сквозь время в эпоху glitch-арта.
Вывод:
ИИ не просто повторил идею Мусоргского — он переосмыслил её, добавив слои цифрового хаоса. Если у Гартмана гном был деревянным, а у Мусоргского — живым, то здесь он стал вирусом в системе.
Глава 2. Tuileries: Детские голоса в матрице
Сад Тюильри, каким его мог бы услышать ИИ
Мусоргский изобразил в «Tuileries» шумную аллею Парижа с детьми и няньками — лёгкую, почти акварельную пьесу.
Как нейросеть представила этот сюжет?
Промпт для Udio: «детский хор, звучащий из старой аудиокассеты, смешанный с шумом листвы».
Алгоритм неожиданно выдал фрагмент, напоминающий эхо игровой площадки — хотя прямо это не запрашивалось.
В Ableton трек был обработан эффектами ленточного эха и винилового потрескивания, чтобы создать ощущение «найденной записи».
Обложка (также сгенерированная ИИ) сочетает аниме-стилизацию и гравюрную текстуру — будто старинная открытка, переведённая в пиксели.
Вывод:
ИИ уловил не только ноты, но и атмосферу — он не знает, что такое Тюильри, но «услышал» в описании радость и движение.
Глава 3. Baba Yaga: Бесовская пляска нейросети
Избушка на курьих ножках или синтетический кошмар?
Мусоргский в «Бабе-Яге» создал один из самых мощных образов цикла — яростный, почти демонический.
Как ИИ справился с «нечистой силой»?
Промпт: «фолк-ударные, искажённые скрипки, бешеная скорость, как будто звук рвётся из динамиков».
В трек вшит фрагмент оригинальной пьесы — как голос из прошлого, прорывающийся сквозь цифровой шум.
Бит собран из сэмплов, созданных в Simpler, с эффектами дисторшна и pitch-shifting.
Обложка — психоделическая интерпретация часов-избушки Гартмана, но уже не изящных, а пугающе живых.
Вывод:
Если Мусоргский рисовал Бабу-Ягу красками романтизма, то ИИ сделал её кибер-ведьмой — хаотичной, непредсказуемой, но всё такой же мощной.
Заключение: Что получилось, когда алгоритмы встретили классику?
Этот проект доказал: экспериментальная музыка — не просто игра с технологиями. Это мост между прошлым и настоящим, где:
Классика не теряет силы — она лишь звучит по-новому. Даже в цифровых искажениях «Бабы-Яги» угадывается её дикий дух.
ИИ — не волшебная палочка, а инструмент, требующий человеческого взгляда. Без ручной обработки в Ableton Live треки остались бы сырыми набросками.
Электроника и акустика не враги — в «Tuileries» детские голоса из XIX века сливаются с шумами, будто из разбитого радиоприёмника.
Конкурс завершён, альбом готов — но главный итог в другом. Эти три трека показали, что даже самая узнаваемая музыка может зазвучать свежо, если дать ей встретиться с технологиями — без страха и пафоса.
«Мусоргский писал о картинах. Мы написали музыку о музыке — и это не замкнутый круг, а спираль».
Где послушать?
Альбом доступен на Bandcamp по ссылке:
Физическая природа восприятия времени: анализ "Картинки с выставки" М. Мусоргского
Введение
Музыка—это не просто последовательность звуков, но и сложная система восприятия времени. Восприятие музыкального произведения формируется не только темпом, но и динамикой, штрихами, мелизмами, гармонией и даже паузами. Одним из выдающихся примеров музыкального отражения временной модуляции является цикл "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского—композиция, передающая не только звучание, но и ощущение переходов во времени и пространстве.
🚀 Как музыка управляет восприятием времени? Можно ли связать художественное время с физическим процессом субъективного восприятия?
Этот анализ исследует музыкальные и физические механизмы временного ощущения на примере структуры и выразительных элементов знаменитого цикла.
1️⃣ Музыка как механизм временной модуляции
✔ Музыкальное время не эквивалентно физическому: Хотя в музыке можно измерить темп в ударах в минуту (BPM), это не отражает реальное субъективное восприятие времени. Длительность звучания зависит от воспринимаемого контекста, настроения, динамики и характера музыкальной фразы.
✔ Штрихи и динамика как инструмент восприятия времени: ✔ Крещендо и дименуэндо создают иллюзию ускорения или замедления времени. ✔ Легато или стаккато изменяют характер звучания, влияя на субъективное течение времени. ✔ Сфорцандо и пианиссимо—мгновенные скачки интенсивности, дающие эффект временного расширения или сжатия.
🚀 Музыка, как и индивидуальное восприятие времени, может растягиваться и сжиматься в зависимости от внутренних факторов!
2️⃣ "Картинки с выставки"—музыкальная модель изменяющегося времени
Мусоргский создал цикл, который передаёт ощущение движения во времени и пространстве. Композиция построена на серии разнохарактерных пьес, каждая из которых создаёт своё временное восприятие.
🔥 Как музыка создаёт субъективное ощущение времени?
✔ "Гном" — резкие скачки мелодической линии, что создаёт ощущение нервного движения времени. ✔ "Старый замок" — плавные длительные фразы, вызывающие эффект растянутого временного потока, словно уносящего слушателя в прошлое. ✔ "Балет невылупившихся птенцов" — фразировка мелодии лёгкая и игривая, субъективное время воспринимается как краткие всплески мгновений. ✔ "Богатырские ворота" — монументальное ощущение времени, величавые аккорды, передающие мощь и историческую глубину.
🚀 Этот цикл показывает, что музыка способна "переключать" временные восприятия в сознании слушателя!
3️⃣ Как искусство управляет индивидуальным ощущением времени?
🔥 Музыка, как и кино, литература и театр, обладает способностью расширять или сжимать временные ощущения. 🔥 Восприятие времени зависит не от реальных минут, а от насыщенности информации, эмоций, структуры произведения. 🔥 Композиции, подобные "Картинкам с выставки", демонстрируют физическую природу временной изменяемости—то, что мы описываем в нашей теории индивидуального времени!
🚀 Вывод: ✔ Музыкальное время—это не фиксированная величина, а динамический процесс, зависящий от восприятия слушателя. ✔ Цикл Мусоргского иллюстрирует механизм субъективного временного модулирования через структуру, штрихи и художественные элементы. ✔ Музыкальные критики могут привязать НАШУ концепцию индивидуального времени к анализу произведений, изучая, как искусство управляет восприятием времени!
🚀 Этот анализ расширяет нашу теорию временной изменяемости, показывая, как музыка становится инструментом субъективного времени!
3 января
Мой дебют в опере
Оба мы, писатель Джон Пристли и я, на коротком отрезке наших жизней оказались коллегами. Поэтому свой рассказ я назвал так же, как он, Пристли, назвал свой.
Был у меня друг детства, Костик. Когда мы были уже солидными, двадцатипятилетними раздолбаями, Костик познакомился с одним... простите, одной из помрежиссеров Большого театра. Знакомство оказалось выгодным: эта дама отвечала за обеспечение массовкой спектаклей гастролировавших в Москве трупп. Костик хвастал, что попасть в группу массовки, особенно во время гастролей иностранных театров, очень трудно. Платили хорошо, да и все участники массовки – люди особенные, «больные» театром.
Наступило лето. Летом в Москве обычно проходили «дни культуры» союзных республик. Театральные площадки столицы предоставлялись театрам из разных мест Союза. И главной площадкой, конечно, был Большой. Выступать в котором допускались лишь ведущие республиканские драматические театры.
В дачный сезон скомплектовать массовку помрежу не удалось, и Костик вызвался помочь.
- Два спектакля, опера «Борис Годунов» – сказал он мне, – Суббота и воскресенье. Первый в Большом, второй в Кремлевском Дворце. По пять рублей за спектакль. Найди еще кого-нибудь.
Мне и искать не пришлось. Когда я рассказал Серёньке о возможности побывать за кулисами Большого, он немедленно согласился. Нам предстояло ненадолго влиться в труппу Национального академического драматического театра одной из республиканских столиц. Перед спектаклем мы были происнструктированы, что нам предстоит быть стрельцами и народом. Четыре выхода на сцену в течение спектакля. И отправили в большую комнату подбирать одежду: кафтаны, штаны, шапки, сапоги. Сапоги были матерчатые, выкрашенные ярко-желтой краской. Мне с трудом удалось найти пару, подходящую по размеру. И еще алебарды. Красного цвета жерди с секирами из фанеры.
Серёньке сразу повезло. Его назначили боярином в царскую свиту. За крупную стать и лопатообразную бороду. Настрого предупредили нас, что, опуская алебарду к ноге, мы ни в коем случае не должны стучать ею об пол. И не вертеть головой, стоять смирно. А, изображая толпу народа, не толкать друг друга. Серёньку же настрого предупредили, чтобы он не подпевал певцам, исполнявшим свои партии. Это потому, что ему предстояло ходить и стоять среди поющих. Его это огорчило. Он надеялся, что удастся спеть на сцене Большого, пусть даже негромко. Но он смирился.
Среди массовки был специальный человек, чьи несложные команды мы должны были выполнять, так что нам оставалось только быть рядом с ним и слушаться.
Я старался не стучать и не вертеть. Хотя очень подмывало посмотреть в зал. Со сцены зал выглядел большой черной пропастью. Я косил глазами в сторону рампы, очень хотелось разглядеть лица зрителей. Но никакой возможности не было.
Между нашими выходами в первом действии и последним выходом в финале для нас была пауза почти в час. Костик с Серёнькой решили уделить внимание хористкам. Это были совсем молоденькие, симпатичные девчонки. Не помню, выходили ли они на сцену. Больше они пели, находясь за кулисами. Здесь им аккомпанировал пианист. Ловко это у него получалось, нота в ноту с оркестром, сидевшим в яме. У хора также случился перерыв, и мои друзья, приблизившись к девочкам, занялись легким кобеляжем. Я же решил совершить экскурсию по недрам театра.
Недалеко за сценой была лестница, ведущая наверх, и я пошел по ней. По моим расчетам, я поднялся на несколько этажей, когда увидел вход в зал. Это было помещение всего с несколькими рядами кресел. Но в этом зале сцена была такая же большая, как та, на которой шли спектакли. В зале, рядом с дверью, через которую я вошел, сидели две балерины. Обе мокрые как мыши и тяжело дышавшие. Больше никто не сидел. Когда я прошел мимо балерин, почувствовал запах пота.
Два человека стояли на сцене и тихо разговаривали. Один, молодой, был одет в трико, а на его голове была шутовская шапка. Такая, с кисточками на две стороны. Второй, пожилой, заметно облысевший, был одет в белую рубашку, черные брюки и лакированные туфли. Он был высокого роста и длинноног. Но его живот выпирал из-под брючного ремня и даже слегка свешивался книзу.
Пожилой отошел к краю сцены, а молодой встал в позу посередине её. Заиграла музыка и артист двинулся по периметру сцены пританцовывая и кривляясь. Я понял, что он изображает танец шута. И еще я понял, что изображает плохо.
Не прошел танцор и половины сцены, как пожилой хлопнул в ладоши и музыка смолкла. Оба опять сошлись и стали разговаривать. Пожилой что-то изображал руками, молодой кивал головой. Вновь они разошлись и все повторилось. Пошла музыка, пошел и танцор. И опять не то!
И тут пожилой встал в центре сцены, молодой прижался к кулисам. Включилась музыка, и шут заскользил, закуражился, заколбасился под нее. Казалось, вот-вот он сделает кульбит или еще какой фортель выкинет. И не заметно было ни цивильной одежды, ни живота – только озорной, лукавый и смешной скоморох! Старый танцор прошел весь круг по сцене и замер в позе посередине ее точно с последним звуком музыки. Балерины зааплодировали, я тоже. На меня оглянулись, и мне стало стеснительно.
Я вышел из зала и пошел вниз по лестнице. Внизу, за кулисами, Костик с Серёнькой уже довели хористок до легкой истерики. Некоторые не могли смеяться и только икали. Их руководитель стал нас прогонять. Хору пришло время вступать в действие, а девочки были не готовы. В положенное время мы совершили свой выход, переоделись и ушли из театра.
На другой день, в Кремлевском Дворце, было не так интересно. Совершенно не то ощущение, чем в Большом. Работали только с мыслью скорее бы получить деньги. Там со мной случилась неприятность. После участия в массовке «народа» я пошел переодеваться в стрельца и не смог найти свои сапоги. В первом акте были, и пропали. Помреж запретила мне выходить в обычной обуви. Ладно, сказала она, обойдемся без одного стрельца. Мне, расстроенному, Костик объяснил: дело обычное, ты не понравился кому-то из массовки. Эти любители театра люди непростые, то и дело друг другу вредят.
В те времена в воскресный вечер попасть в кафе было не реально. Если не знать город так, как его знали мы. Под крышей гостиницы «Москва» было кафе «Огни Москвы». Проход туда найти было не просто, потому свободные места там бывали. Ох, и кутнули оперные артисты на честно заработанные!
«Во всю ширь русских полян» — 185 лет композитору Модесту Мусоргскому
21 марта исполнилось 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского, одного из известнейших русских композиторов, автора «Картинок с выставки», опер «Борис Годунов» и «Хованщина», множества песен и романсов.
При жизни его порой не понимали даже близкие друзья, но спустя годы о Мусоргском заговорили как о гении мирового масштаба. Часто о его жизни судят по знаменитому портрету кисти Репина, на котором изображен человек с испитым лицом, красным носом и всклокоченной шевелюрой. Но этот поздний портрет передает лишь одну из множества сторон оригинальной личности Мусоргского, среди которых были и довольно неожиданные.
Мусор или музыка
Род Мусорских (именно так, без буквы «г») гордился своей древностью. В тумане истории он восходил к Рюрику, а во времена феодальной раздробленности получил имя от правнука смоленского князя Юрия Святославовича Романа Монастырева по прозвищу Мусорга. Чем он такое прозвище заслужил, точно неизвестно, но по-гречески это слово означает «сочинитель музыки». Раскопав такую деталь в семейном предании, молодой Модест Мусорский вернул в фамилию потерявшуюся где-то в веках букву «г». Так он стал подписывать свои сочинения, а в официальных бумагах продолжал оставаться, как и его ближайшие родственники, Мусорским.
Один из них, дед Алексей, на старости лет обвенчался со своей крепостной Ириной, от которой у него было трое детей: две дочери и сын Петр. Так родословная Мусоргского соединила в себе две главные ветви русского народа XIX столетия: дворянство и крестьянство, что очень символично, учитывая, насколько Модест был одержим всем народным.
Из-за того, что юность свою, до официального брака родителей, Петр Алексеевич провел в статусе крепостного, дорога в гвардейские офицеры, какими были его отец и дед, оказалась закрыта, но он сделал все возможное, чтобы его сыновья, Филарет и Модест, гарантированно стали военными.
Заметив, с каким увлечением Модинька, как его звали близкие, импровизирует на фортепиано мелодии по мотивам услышанных от няни народных песен, его мать Юлия Ивановна взялась обучать малыша игре и нотной грамоте. Жили они тогда в имении Карево в Псковской губернии.
«Нарисованный офицерик»
Когда Модесту исполнилось десять, отец отвез сыновей в столицу: окончив Петропавловскую школу («Петершуле») с ее строгой дисциплиной и преподаванием исключительно на немецком языке, юные Мусорские должны были поступить в школу гвардейских подпрапорщиков. Для продолжения занятий музыкой отец отвел его к одному из лучших столичных педагогов Антону Герке.
В отличие от старшего брата, Модест учился легко и с удовольствием. Тяга к знаниям сохранялась у него всю жизнь; особенно его интересовало все, что связано с историей и психологией. Но в гвардейской школе ценилось иное: днем держать выправку и красиво маршировать на плацу, а вечером не упасть лицом в грязь в юнкерских попойках. Второе «умение» впоследствии сыграло в жизни Мусоргского роковую роль.
Зачисленный по окончании гвардейской школы в элитный Преображенский полк, во время одного из нарядов во 2-м военно-сухопутном госпитале 17-летний Мусоргский познакомился с молодым врачом Александром Бородиным, который спустя несколько лет станет его близким другом и соратником по «Могучей кучке».
В то время никто не смог бы распознать в юном офицере будущего композитора-новатора, знакомого нам по выше упомянутому портрету. «Модест Петрович был в то время совсем мальчонком, – вспоминал Бородин, – очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки вывороченные, волоса приглажены, напомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические, разговор такой же, немного сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Вежливость и благовоспитанность необычайные».
«Мальчонок» взрослеет
Каково же было удивление Бородина, когда два года спустя в гостях у знакомого профессора он снова пересекся с Мусоргским, который уже оставил военную службу ради занятий музыкой. «Он возмужал, начал полнеть, офицерского пошиба уже не было. Изящество в одежде, в манерах и проч. были те же, но оттенка фатовства уже не было ни малейшего», – вспоминал автор «Князя Игоря». Но главное, когда Модест сыграл Бородину фрагмент своего сочинения, тот не поверил ушам: вчерашний «мальчонок» оказался композитором с оригинальными идеями.
Что же такого произошло с Мусоргским в эти два года между первой и второй встречей с Бородиным?
Осуществив мечту отца и старательно мимикрируя под бравого гвардейского офицера, Модест все же не мог изменить свою подлинную природу, а она нуждалась в музыке, как в воздухе. Тогда наш герой нашел сослуживцев, которые по вечерам не просто бездумно кутили, а музицировали, обсуждая композиторов и их произведения.
Чем глубже погружался Модест в музыку, тем серьезнее становились его требования к ней. Царившая в России итальянская опера начала вызывать у него досаду своей вычурностью. Он любил Шумана, Моцарта и понимал, что музыка – не просто светское развлечение; она может выражать что-то глубокое, масштабное, подлинное.
Выросший на народных песнях и сказках, Мусоргский чувствовал потенциал русского фольклора, поэтому с восторгом открыл для себя Михаила Глинку и его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Их автор в те годы жил за границей, потому что на родине его творчество, основанное на русских мотивах, ценилось мало. Ориентированная на Европу отечественная «культурная публика» того времени насмешливо именовала его сочинения музыкой кучеров, подразумевая, что русские мотивы могут волновать только простонародье.
Найти своих
Однажды сослуживец привел Мусоргского в гости к Александру Даргомыжскому, композитору и другу Глинки, энтузиасту отечественной музыки, и с тех пор Модест практически поселился в этом доме – он наконец нашел близких себе по духу творческих людей.
Под влиянием Даргомыжского он сочинил свой первый романс «Где ты, звездочка» на стихи Николая Грекова. Пробовал взяться и за крупную форму – оперу по мотивам романа Виктора Гюго «Ган Исландец», но «ничего не вышло, потому что не могло выйти (автору было 17 лет)», как позже объяснял сам сочинитель.
Мусоргский понял, что нужно изучать основы композиции, и в этом ему помог еще один новообретенный друг и наставник – Милий Балакирев. Всего на два года старше Модеста, тот был уже известным пианистом и композитором, и сам Глинка, почитавшийся в кругу Даргомыжского гением, назвал его продолжателем своего дела.
В отношениях с людьми Мусоргский был очень мягким, но в отношении к творчеству – настоящим максималистом. Поняв, что музыку нельзя сочинять «по выходным», он подал в отставку, чтобы посвятить себя ей целиком. Друзья отговаривали: все они либо состояли на военной службе, либо ходили на гражданскую работу, а музыку писали в свободное время. Мусоргский же стал одним из первых русских композиторов, выбравших профессиональный путь. Впрочем, хватило его ненадолго: после отмены крепостного права в 1861 году доходы от родового имения резко сократились, и ему все-таки пришлось устроиться в Главное инженерное управление, а позже стать чиновником Лесного департамента.
Большая семья
Балакирев, Мусоргский, Цезарь Кюи и чуть позже присоединившиеся к ним Бородин и Римский-Корсаков составили компанию композиторов, которая с подачи их верного товарища критика Владимира Стасова вошла в историю под названием «Могучая кучка». Сами же они чаще говорили о своем объединении как о «Новой русской школе».
Человек бессемейный, Мусоргский был очень привязан к кругу своих друзей, в который помимо «кучкистов» и Даргомыжского со Стасовым входили сестра Глинки Людмила Шестакова, историк Владимир Никольский, оперный певец Осип Петров и его жена певица Анна Петрова-Воробьева, сестры-музыканты Надежда и Александра Пургольд, поэт, дальний родственник и постоянный соавтор композитора Арсений Голенищев-Кутузов и другие творческие люди. Все они трогательно заботились о неустроенном в бытовом плане Модесте, и в этих семьях он находил уют, который не смог организовать в своей личной жизни.
В этом кругу были в ходу шутливые прозвища, которые часто придумывал именно Мусоргский. Стасов был Генералиссимусом, Даргомыжский – Даргунчиком, Римский-Корсаков – Корсинькой, Бородин – Химическим господином, сестры Пургольд – Пурганцами, а сам Модест – Мусорянином, Мусоргой и даже, в женском роде, Саввишной (по имени персонажа одной из его песен).
В краткой автобиографии, написанной по просьбе Стасова, среди своих знакомых, общение с которыми повлияло на него, Мусоргский называл также Тургенева, Достоевского, Писемского, Костомарова, Шевченко.
Мусоргский успел пожить даже в коммуне – так, по крайней мере, он и несколько его друзей, вдохновившись только что вышедшим романом Чернышевского «Что делать?», представляли совместное проживание в одной квартире. Но после смерти матери в 1865 году Модест потерял душевное равновесие, и брат Филарет взял его пожить в своей семье.
По правде
В отличие от большинства композиторов, Мусоргского мало интересовало создание симфоний, прелюдий, концертов и других форм «чистой музыки». Сонаты, скерцо были ему нужны лишь на этапе ученичества. Его волновало творчество, выражавшее что-то конкретное: картины, мысли, эмоции.
«Завет искусства – по правде беседовать с людьми», – говорил Мусоргский. И для этой беседы самым совершенным жанром он считал оперу, в которой можно было объединить разные виды искусства: музыку, поэзию, прозу, драму, а также философию, историю и другие науки.
Но опера – крупная форма и требует большой последовательной работы. Мусоргский не раз начинал писать оперы и останавливал работу. Среди таких проектов были «Царь Эдип» по Софоклу, «Саламбо» по Флоберу и авангардная опера в прозе по гоголевской «Женитьбе». По сути, при жизни он полностью завершил только одну оперу – «Борис Годунов». «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка» не были доведены им до конца.
«Я был космополит, а теперь – какое-то перерождение»
Жанром, в котором Мусоргский работал чаще всего, была песня. Он создал десятки романсов, баллад, сатирических историй и «народных картинок», а также песенные циклы: «Детская», «Песни пляски и смерти», «Без солнца».
В большинстве из них отчетливо слышна русская мелодика. Важным событием в этом плане стала поездка в Москву в 1859-м. Мусоргский писал Балакиреву: «Москва заставила меня переселиться в другой мир – мир древности, не знаю почему, приятно на меня действующей. Знаете что, я был космополит, а теперь – какое-то перерождение, мне становится близким все русское».
Шуточный рисунок "Могучая кучка", 1871. Слева направо: Ц. Кюи, М. Балакирев, В. Стасов, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков с женой А. Пургольд (справа) и ее сестрой Н. Н. Пургольд, М. Мусоргский
Обычно любовь к старине и народным традициям идет рука об руку с консерватизмом, но в Мусоргском она сочеталась с новаторством: он был главным бунтарем не только в «Могучей кучке», но и вообще среди современных ему композиторов. Формальной красоте и изяществу формы он предпочитал «внутреннюю правду». «Тончайшие черты природы человека и природы человеческих масс, назойливое ковырянье в них – вот настоящее призвание художника. К новым берегам!» – восклицал он.
Другой его революционной идеей было создание мелодий, основанных на музыке, которую он слышал в людской речи. «Работою над говором человеческим добрел я до мелодии, творимой этим говором, – писал он. – Я хотел бы назвать это осмысленною/оправданною мелодией. И тешит меня работа; вдруг, нежданно-несказанно, пропето будет враждебное классической мелодии (столь излюбленной) и сразу всем и каждому понятное. Если достигну – почту завоеванием в искусстве, а достигнуть надо».
«Классическое» для него означало все стандартное, безжизненное в искусстве.
Борьба за «Бориса»
В конце 1860-х «Могучая кучка» увлеклась сочинением масштабных исторических опер. Римский-Корсаков задумал «Псковитянку», Бородин – «Князя Игоря», а Мусоргский с подачи Никольского взялся за сюжет о Борисе Годунове, основываясь на карамзинско-пушкинской трактовке событий.
Мусоргский был очень доволен своей работой, но комитет капельмейстеров и дирижеров Мариинского театра отказал ей в постановке, указав на недостатки: отсутствие крупной женской роли и преобладание ансамблей над сольными номерами.
Автора эти новости ошеломили: он создавал «Годунова» в большом воодушевлении, а указанные комитетом «недостатки» были продуманными особенностями оперы, ведь он не признавал никаких канонов. Однако, смирившись, он взялся за вторую редакцию оперы, добавив любовную линию Лжедмитрия и Марины Мнишек, а также финальную сцену народного восстания.
После двух лет переделок театральный комитет, возглавлявшийся итальянцем Ферреро, снова «забраковал» оперу, но на этот раз многочисленные друзья и ценители Мусоргского решили во что бы то ни стало добиться ее постановки. Поскольку «Псковитянка» Римского-Корсакова вызвала сдержанные отзывы, а «Годунов» обещал стать самым громким достижением «новой русской школы».
Победить официоз и устроить-таки премьеру «Годунова» удалось примадонне оперной группы Мариинского театра Юлии Платоновой, которая в 1874 году поставила условием продления своего контракта исполнение оперы Мусоргского. Впервые в истории спектакль поставили в обход комитета.
«В России должна быть русская опера, как там чиновники ни скрыпи», – писал Мусоргский.
Опера шла с успехом, но неприятные сюрпризы для Мусоргского не закончились. Среди нескольких разгромных рецензий, появившихся в газетах, внезапно обнаружилась заметка его товарища по «Кучке» Цезаря Кюи, назвавшего «Годунова» незрелым сочинением, а его автора – самодовольным.
Конец «Кучки»
К тому времени «Могучая кучка» фактически распалась: Римский-Корсаков стал преподавателем в консерватории, духу которой «Новая русская школа» прежде себя противопоставляла, Бородин ушел в науку, а Кюи – строить военную карьеру. Но самое неожиданное случилось с Балакиревым. Этот энергичный человек, бывший «мотором» объединения, впал в уныние, отошел от музыки и в 1874-м устроился чиновником на Варшавскую железную дорогу.
Мягкий, привязчивый, Мусоргский тяжелее всех переживал распад братства. «Могучая кучка» выродилась в бездушных изменников», – писал он Стасову.
К этим переживаниям в 1874 году прибавились новые потрясения: внезапная смерть двух близких людей – архитектора и художника Виктора Гартмана и давней возлюбленной композитора Надежды Опочининой.
Посетив посмертную выставку Гартмана, Мусоргский в короткий срок создал один из своих главных шедевров – фортепианную сюиту «Картинки с выставки». Потерю возлюбленной он попытался описать в романсе «Надгробное письмо», но не нашел в себе сил закончить его.
Еще одно примечательное произведение Мусоргского этого непростого периода – баллада «Забытый», написанная им вместе с поэтом Голенищевым-Кутузовым под впечатлением от одноименной картины Василия Верещагина. Выставка Верещагина, посвященная туркестанской военной кампании, прошла в том же 1874-м и потрясла современников своим бескомпромиссным реализмом. Она впервые показывала войну не с парадной стороны и поэтому вызвала гнев военного начальства. Особенно досталось картине, на которой был изображен труп брошенного в поле русского солдата. Разразился скандал с участием генералов и самого императора Александра II, Верещагину было заявлено, что он врет и «русские своих не бросают». Вспыльчивый живописец тут же уничтожил полотно, но его сюжет остался в песне Мусоргского.
Главными работами Мусоргского последних лет жизни были оперы «Хованщина» об эпохе стрелецких бунтов конца XVII века и «Сорочинская ярмарка» по Гоголю. Первая трагичная, вторая комичная, и композитор работал над ними параллельно, чтобы держать эмоциональный баланс и не скатываться ни в трагедию, ни в веселье.
«Нервная болезнь»
Почти всю сознательную жизнь Мусоргский страдал от приступов того, что некоторые его биографы стыдливо называют «нервной болезнью». Впрочем, так ее называл он сам, сетуя в письмах к знакомым на то, что «ирритация нервов» опять надолго лишила его возможности работать, пока не понял, что для окружающих его недуг – секрет Полишинеля: все давно знали, что на самом деле речь идет о запойном пьянстве, а навязчивые «идеи мистицизма», на которые он жаловался летом 1858-го (ему было всего 19), – не что иное, как белая горячка.
Композитор был завсегдатаем питерского трактира «Малый Ярославец», в котором братья Мусорские порой гуляли так, что им приходилось закладывать имение.
К середине 1869-х, по сведениям лечившего его врача Бертенсона, Мусоргский уже предпочитал не договариваться о концертах заранее, так как не мог прогнозировать, будет ли он к моменту выступления в адекватном состоянии.
Юнкерско-кадетская «школа» пития наложилась на врожденную предрасположенность к алкоголизму, а мягкая, ранимая натура Модеста находила в вине утешение и убежище от обступавших его проблем, которые, как нетрудно догадаться, накапливались с каждым запоем.
От алкоголя страдало его творчество (ему приходилось делать перерывы в несколько недель), страдала личная жизнь (женщине, которую он любил, Модест так и не решился сделать предложение), страдала, в конце концов, его государственная служба, хоть и нелюбимая, но все же кормившая и поившая композитора.
И все же, разрушаясь физически, Мусоргский продолжал не просто сочинять, а искать новые пути и способы самовыражения. Его поздняя, импрессионистская, музыка была воспринята старыми друзьями-шестидесятниками (в частности, верным и по-отечески опекавшим его Стасовым) как признак деградации, но они не принимали ничего, кроме откровенного реализма.
Мусоргский с годами все резче отзывался о классических традициях, которые, по его мнению, мертвят искусство, делают его гладким и причесанным. О своих бывших соратниках по «Кучке» он писал с досадой: «Как припомню неких художников... все-то их стремление – моросить капелька за капелькой, и капельки все такие ровненькие... а человеку тоска и скука. Да прорвись ты, любезный, как живые люди прорываются, покажи ты, когти у тебя или ластовицы, зверь ты либо амфибия какая. Куда тебе!»
Последние дни
Порог сорокалетия Мусоргский переступил в двойственном положении: с одной стороны, творческая энергия бурлила в нем, он работал над «Хованщиной», «Сорочинской ярмаркой», сделал новую редакцию хора «Иисус Навин», строил планы новой оперы – «Пугачевщина» по мотивам «Капитанской дочки». С другой – он находился на последней стадии алкоголизма с эпилептическими припадками, кровотечениями и невозможностью спать лежа – начинал задыхаться из-за сердечной недостаточности.
В финальной фазе его жизни Мусоргского опекала певица Дарья Леонова, взявшая его к себе аккомпаниатором, в том числе в большое турне по югу страны: от Полтавы до Тамбова. Мусоргский был доволен и окрылен успехом этой поездки. «Много лет с плеч долой! К новому музыкальному труду зовет меня жизнь», – писал он Шестаковой.
В этом турне он сочиняет несколько пьес под впечатлением от Крыма, а также знаменитую «Блоху» («Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха»), позже увековеченную Шаляпиным, задумывает «большую сюиту на темы Закаспийского края, среднеазиатские темы». Никак не скажешь, что композитор в творческом кризисе. Он и не был в нем. Кризис был сугубо алкогольным.
Обеспокоенные состоянием Мусоргского, друзья и почитатели собирали ему деньги на жизнь и дописывание «Хованщины». Однако пил композитор в этот период уже круглые сутки. После серии эпилептических приступов в феврале 1881-го его устроили в Николаевский госпиталь, где он постепенно приходил в себя. Но в середине марта Мусоргский подговорил служащих тайно принести ему бутылку коньяка и, выпив ее, получил инсульт и умер неделю спустя после своего 42-летия.
«Боец за правую мысль»
Уход композитора не стал потрясением в музыкальной среде России того времени. Что говорить, если до конца Мусоргского не понимал даже Корсинька, взявшийся дорабатывать произведения друга после его смерти. О «Борисе Годунове» он, например, говорил: «Я лично это произведение боготворю за оригинальность, силу, смелость, самобытность и красоту и ненавижу за недоделанность, гармоническую шероховатость, а местами – полную музыкальную несуразность».
Всю эту «несуразность» Римский-Корсаков и принялся устранять, полагаясь на свой вкус и не доверяя автору в его новаторских прозрениях. А ведь насмешливые слова Мусоргского о любителях «моросить капелька за капелькой» относились и к нему. С другой стороны, если бы не его труд, имя Мусоргского стало не так скоро и широко известно.
Гораздо больше внимания к Мусоргскому, чем на родине, в конце XIX века было во Франции. Вскоре после премьеры «Годунова» Камиль Сен-Санс привез ноты этой оперы в Париж. Музыковед Пьер д’Альгейм написал о русском композиторе книгу. Лидеры музыкального импрессионизма Дебюсси и Равель отзывались о Мусоргском как о сильно повлиявшем на них авторе.
«Никто не обращался к тому лучшему, что есть в нас, на языке более нежном, более глубоком; Мусоргский – единственный и останется таковым по своему искусству без предвзятых приемов, без иссушающих формул. Никогда более тонкая чуткость не передавалась столь простыми средствами», – говорил Дебюсси.
Спустя век после написания «Картинок с выставки» эта сюита стала событием в западной рок-музыке, после того как ее версию сделала британская группа Emerson, Lake and Palmer.
Работая над «Хованщиной», Мусоргский писал Стасову: «И теперь, и вчера, и недели тому назад, завтра одна дума – выйти победителем и сказать людям новое слово дружбы и любви, прямое и во всю ширь русских полян, правдой звучащее слово скромного музыканта, но бойца за правую мысль искусства».
И это новое слово он действительно сказал. Так совершенно русские по звучанию сочинения Мусоргского (а увертюра к «Хованщине» «Рассвет на Москве-реке» стала одним из главных символов русской музыки в целом) оказались понятны и близки людям разных культур и национальностей.
185 лет исполняется со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского
Сегодня исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося (нередко встречаются также эпитеты "великого" и даже "гениального") русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, автора множества произведений, среди которых оперы "Борис Годунов" и "Хованщина", а также многочисленные камерные вокальные сочинения, в том числе и знаменитая "Песня о блохе", обретшая самостоятельную концертную жизнь и удостоившаяся упоминания в рассказе Николая Носова "Федина задача".
По ссылке можно ознакомиться с моим исполнением "Песни Варлаама" и монолога Бориса "Достиг я высшей власти..." из первой авторской редакции оперы "Борис Годунов", а также двух номеров ("Серенада" и "Трепак") из вокального цикла "Песни и пляски смерти" на стихи Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова и уже упомянутой здесь "Песни о блохе".