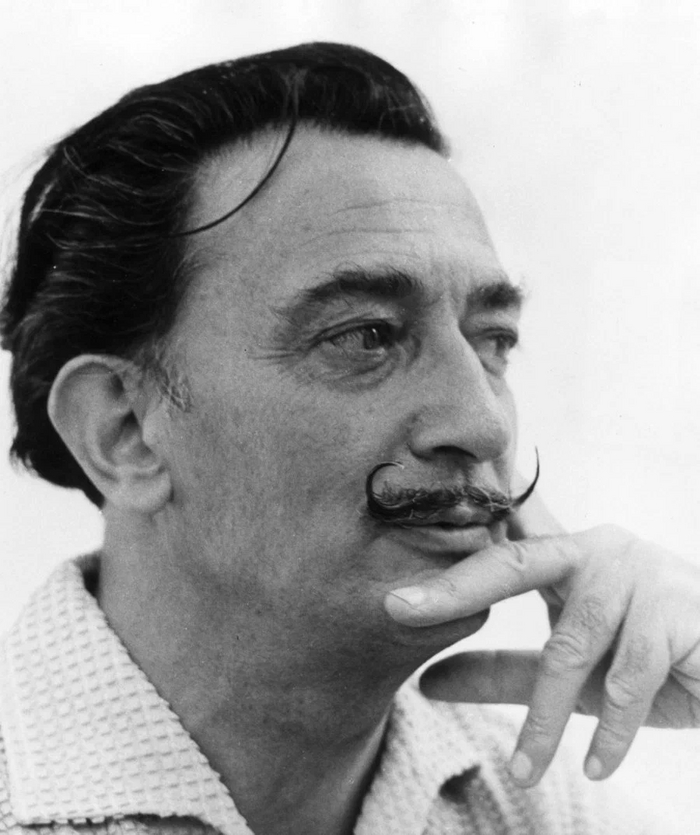Говорят, что у лжи короткие ноги, что на лжи далеко не уедешь. Но это не так, эта сентенция - миф. Известное тому подтверждение - судьба князя Потёмкина.
Князь Григорий Александрович Потёмкин, любовник и, возможно, даже законный (морганатический) супруг Екатерины II, стал жертвой зависти, интриг и придворных пересудов. Впрочем, клевета эта сыграла злую шутку скорее не с ним самим, а с теми, кто принимал её за чистую монету, - а они встречаются и в наши дни!
И сегодня часто вспоминают не самого князя Потёмкина, мудрого государственного и военного деятеля, строителя Черноморского флота, основателя многих крупных городов Новороссии, а его так называемые «Потёмкинские деревни».
Эти «деревни» стали синонимом обмана, очковтирательства, показного блеска. Эта идиома (фразеологизм) восходит к рассказу о том, как князь Потёмкин, губернатор южнорусских областей и Крыма, стремясь обмануть императрицу, совершавшую поездку по этим землям, распорядился срочно возвести на её пути декорации мнимых деревень, и для видимости населить их людьми. С помощью таких «потемкинских деревень» князь убедил императрицу в том, что страна процветает, и этим скрыл от неё огромные растраты - им самим было присвоено три миллиона рублей.
Эту ложь о «картонных деревнях» и «аферисте Потёмкине» повторяют не только бесчисленные романы об энергичной, любившей все радости жизни императрице. Подобную же трактовку мы встречаем и на страницах вроде бы серьёзных исторических повествований, и даже в некоторых справочниках. Разумеется, чаще всего авторы научных трудов добавляют словечки «якобы», «будто бы», «по утверждению» (Highly likely тех времён). А между тем уже давно было чётко доказано, что история с «потемкинскими деревнями» – ложь.
Эти измышления появились вскоре после инспекционной поездки императрицы по южнорусским провинциям, состоявшейся в 1787 году. Слухи быстро распространились по всему свету. На Западе буквально пожирали любые новости, корреспонденцию и, естественно, сплетни, сообщаемые из Петербурга и Москвы и связанные с именами любвеобильной императрицы и её фаворитов. Сколь велик был интерес публики к Екатерине, показывают слова Вольтера, долгие годы находившегося в переписке с императрицей: «Счастлив писатель, коему доведётся в грядущем столетии писать историю Екатерины II».
Историю Екатерины писали не только в грядущем, XIX столетии. Первая биография императрицы была написана уже в 1797 году, всего через год после её смерти. Автором стал немецкий писатель Иоганн Готфрид Зейме. После разных перипетий в своей судьбе он стал секретарём у русского генерала и министра и вместе с ним переехал в Варшаву. Его интересовала русская история и политика, и потому он написал о Екатерине II, императрице, на службе у подчинённого которой генерала состоял в течение нескольких лет.
Когда в издательстве «Алтона» увидело свет сочинение Зейме «О жизни и характере российской императрицы Екатерины II», в Гамбурге была напечатана и биография князя Потёмкина. Поначалу, правда, не отдельной книгой, а в виде серии статей, публиковавшихся в гамбургском журнале «Мине́рва», (журнале истории и политики) (1797‑1799). Эта биография – один из первых образчиков того, что в наши дни называют «убийственным журналистским пасквилем». Имя автора не было указано. Лишь впоследствии выяснилось, что им был саксонский дипломат по фамилии Гельбит.
В 1808 году его стряпню перевели на французский язык, в 1811‑м – на английский, а позднее – и на ряд других языков. Его измышления приобрели широкую популярность и стали основой для всей последующей клеветы на Потёмкина. Некоторые из ро́ссказней Гельбита дожили до наших дней.
Россказни были вовсе не безобидными: речь шла не только о растраченных деньгах, не только о домах из картона, дворцах из гипса, многих тысячах несчастных крепостных, коих переодевали в поселян и вкупе со стадами скота спешно перегоняли из одной «потемкинской деревни» в другую. Нет, ложь была страшнее: когда, мол, спектакль, разыгранный ловким мошенником, завершился, тысячи бедных жертв его, перегонявшихся из одной деревни в другую, были якобы обречены на голодную смерть. Всю эту ложь, поведанную саксонским дипломатом и представленную публике в той злополучной серии статей, превративших Григория Александровича Потёмкина в лживого шарлатана, разоблачил лишь российский учёный Георгий Соловейчик, автор первой критической биографии Потёмкина. Произошло это спустя почти полтора века.
На самом деле Потёмкин являлся одним из крупнейших европейских политиков XVIII столетия. На протяжении 17 лет он был самым могущественным государственным деятелем екатерининской России. Многое из созданного им сохранилось и поныне, потому что он занимался чем угодно, но только не показной мишурой. Когда участники той самой инспекционной поездки, продолжавшейся не один месяц, приехали осматривать Севастополь, строительство которого Потёмкин начал всего за три года до этого, их встретили в порту 40 военных кораблей, салютовавших в честь императрицы. Когда же они осмотрели укрепления, верфи, причалы, склады, а в самом городе – церкви, больницы и даже школы, все высокие гости были просто поражены. Иосиф II, император Священной Римской империи, который инкогнито участвовал в этой поездке, дотошно всё осматривавший и, как свидетельствуют его записки, настроенный очень трезво и критично, был прямо-таки напуган этой выросшей как из-под земли базой русского военного флота.
Между тем строительство Севастополя – лишь один факт в череде разнообразных, достойных уважения славных дел, совершенных Потёмкиным, а город этот - лишь один из целого перечня городов, основанных князем. Екатерина писала о Херсоне: «Стараниями князя Потёмкина этот край превратился в поистине цветущую страну, и там, где до заключения мира не сыскать было ни единой хижины, возник процветающий город…» (до заключения мира – то есть до 1774 года, когда окончилась русско-турецкая война). Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, Россия получила выход к Чёрному морю.
Минуло два года с тех пор, как Потёмкин основал Севастополь; теперь князь приступил к строительству нового города. В честь императрицы он был назван Екатеринославом. Этот город должен был явить собой нечто особенное: промышленный и университетский центр с консерваторией и музыкальной академией. Потёмкин планировал, что этот город будет столицей Новороссии. В этом Екатеринославе-на-Днепре (в дальнейшем - Днепропетровске, который на Украине (надеюсь, ненадолго) переименовали в Днепр) князь собирался построить судебные учреждения, театры, торговый центр и собор, который, как писал Потёмкин императрице, «будет схож с собором св. Петра в Риме». Потёмкин уже пригласил ряд профессоров преподавать в будущем университете и в музыкальной академии, люди уже начали получать жалованье (хотя строительство зданий ещё не было закончено). Построили фабрику по изготовлению шёлковых чулок; за короткое время была налажена целая отрасль промышленности: занялись разведением шелковичного червя, шёлкопрядением, красильным делом. Восхищённый первыми успехами, Потёмкин писал императрице, отсылая ей образцы первых шёлковых тканей, полученных в Екатеринославе: «Вы повелели червям трудиться на благо людей. Итога Ваших стараний хватит на платье. Ежели молитвы будут услышаны, и Господь дарует Вам долгую жизнь, тогда, коли Вы, милостивая матушка, навестите сии края, порученные моему призрению, дорога Вам будет выстлана шелками».
Естественно, не всё из задуманного Потёмкину удалось реализовать. Слишком обширны были его замыслы. И всё же многое начатое им выдержало проверку временем. Свидетельством тому могут служить записки англичанки Мэри Гатри, непредвзятой наблюдательницы, посетившей в конце XVIII века Южную Россию и объездившей всю территорию, обустраиваемую Потёмкиным.
Вот что, например, Мэри Гатри, по роду занятий учительница, писала о городе Николаеве всего через пять лет после того, как он был основан: «Улицы поразительно длинные, широкие и прямые. Восемь улиц пересекаются под прямым углом, и вместить они способны до 600 домов. Кроме того, имеется 200 хижин, а также земляные постройки в пригородах, заселённых матросами, солдатами и т. д. Имеется также несколько прекрасных общественных зданий, таких, как адмиралтейство, с длинным рядом относящихся к нему магазинов, мастерских и т. д. Оно высится на берегу Ингула (приток Южного Буга), и при нём располагаются речные и сухие доки. Короче говоря, всё необходимое для строительства, оснащения и снабжения провиантом военных кораблей - от самых крупных до шлюпок. Доказательством служит тот факт, что в прошлом году со здешних стапелей сошёл корабль, оснащённый 90 пушками (это линейный корабль 1-го класса). Упомянутые общественные строения, так же как прелестная церковь и немалое число частных домов, сложены из изящного белого известнякового камня… Прочие дома – деревянные… Количество жителей, включая матросов и солдат, достигает почти 10 000 человек».
Почему же в историю с «картонными деревнями» поверили не только иностранцы, но и россияне, и даже придворные? Всё объяснялось прежде всего тем положением, которое занимал Потёмкин. У фаворитов императрицы никогда не было недостатка в завистниках. Образовывались целые партии их сторонников или противников. В особенности это относилось к Потёмкину, ведь он, как никто другой из длинной череды любовников императрицы, влиял на политику России. Недоброжелатели считали вначале, что назначение в Крым – это для него своего рода опала, но когда убедились, что за несколько лет он проделал там невероятное и что его влияние и на Екатерину, и на политику страны всё так же велико, его враги с новой силой ополчились против него.
Конечно, Екатерина была знакома с наветами на князя Потёмкина. Они её раздражали, и только. Она писала Потёмкину: «Между Вами и мной, мой Друг, разговор короток. Вы мне служите, я Вам благодарна. Вот и всё. Что до Ваших врагов, то Вы Вашей преданностью мне и Вашими трудами на благо Страны прижали их к ногтю».
После той поездки на юг она написала ему много благодарственных писем. И Потёмкин отвечал: «Как благодарен я Вам! Сколь часто я был Вами вознаграждён! И сколь велика Ваша милость, что простирается и на ближних моих! Но пуще всего я обязан Вам тем, что зависть и зложелательство вотще силились умалить меня в Ваших очах, и всяческие козни против меня не увенчались успехом. Такого на этом свете не встретишь…».
Это письмо было написано Потёмкиным 17 июля 1787 года; тогда ему было 47 лет. Он пребывал на вершине карьеры, начавшейся 13 лет назад, когда Екатерина выбрала его своим фаворитом. Впрочем, выделила она его задолго до этого, в тот решающий для неё день, 28 июля 1762 года, когда свергла своего мужа, императора Петра III, и провозгласила себя «императрицей и самодержицей Всея Руси». В то время Потёмкину было 23 года, он происходил из родовитой, но небогатой семьи. Он принял активное участие в дворцовом перевороте. Ведущую роль в этом предприятии играли братья Орловы, с которыми гвардейский унтер-офицер Потёмкин был дружен.
В тот день квартирмейстер Потёмкин наверняка чем-то снискал расположение Екатерины. Ведь его имя значилось в составленном ею списке тех 40 человек, которые поддержали её во время переворота. Первыми были названы братья Орловы. Один из них, Алексей Орлов, 6 июля 1762 года в Ропше, по-видимому, и убил низложенного императора. Потёмкин также был в то время в Ропше, но вряд ли участвовал в убийстве. Во всяком случае, о нём никогда не вспоминали в связи с этим событием. Иначе бы непременно наградили куда щедрее. В списке значилось лишь следующее: «Квартирмейстер Потёмкин: два полковых чина и 10 000 рублей». Это было немного. Сорока своим сторонникам Екатерина раздарила в общей сложности более миллиона рублей. В честь коронации Потёмкин получил серебряный сервиз и четыре сотни душ в Московской губернии.
Крепостные в ту пору в России были дёшевы, поэтому Потёмкин со своими четырьмя сотнями душ был вовсе не богачом. У людей богатых крепостные исчислялись тысячами, у некоторых вельмож одних только домашних слуг и лакеев насчитывалось до восьмисот.
Вскоре после коронации Екатерины Потёмкин получил самое низшее придворное звание камер-юнкера (камер-юнкером был в эпоху Николая I и А.С. Пушкин, которому император присвоил его, чтобы Пушкин с женой мог появляться на придворных мероприятиях). Итак, он официально вошёл в круг придворных. Этим он был обязан, прежде всего, братьям Орловым. Они протежировали ему. Он был их хорошим приятелем, разговорчивым, остроумным, находчивым. Был любителем выпить, завзятым игроком, легко и без сожаления делавшим долги.
Что касалось их самих и их будущего, то Орловы надеялись на то, что Екатерина выйдет замуж за Григория, человека очень привлекательного: на протяжении многих лет он являлся её любовником, императрица родила от него троих детей (по двоим из них, девочкам, есть, правда, сомнения). Поэтому братья Орловы были очень заинтересованы в смерти Петра: только овдовев, императрица могла вновь выйти замуж. Исходя из этого, будучи человеком не очень дальновидным и неважным аналитиком, вскоре после смерти Петра, Григорий Орлов начал давить на Екатерину в смысле брака.
Орловы – их было пятеро братьев – происходили из неродовитой дворянской семьи. Их дед был всего лишь простым солдатом; за особую храбрость его произвели в офицеры. Все пятеро братьев также слыли изрядными храбрецами, ухарями. Они были воплощением гвардейского духа. Григория обожали. Во время Семилетней войны в кровопролитной битве под Цорндорфом (против прусской армии Фридриха II) он, молодой лейтенант, был трижды ранен и всё же продолжал командовать своими солдатами. Тогда-то и началось его восхождение.
В ту пору, когда Потёмкин только появился при дворе, Григорий Орлов уже считался самым могущественным (после самой императрицы, разумеется) человеком в империи. Он был уверен, что его власть и положение крепки. Однако когда он и его братья заметили, что императрице все больше нравится молодой Потёмкин, когда до них дошёл слух, передаваемый при дворе (говорили, что Потёмкин как-то раз бросился Екатерине в ноги, поцеловал её руки и пролепетал признание в любви), - тогда они решили преподать дерзкому сопернику урок. Григорий и Алексей потребовали от него объяснений. Этот разговор, проходивший на квартире Григория Орлова в Зимнем дворце, вылился в дикую драку. По-видимому, именно тогда Потёмкину тяжело повредили левый глаз (в результате он его лишился). Это одна из версий происшедшего. Есть и другие
Потёмкин был глубоко уязвлён. Он удалился от двора. В течение полутора лет жил отшельником в своём небольшом имении. Всё это время он много читал, в особенности его интересовали богословские труды. Разгульная жизнь внезапно сменилась вдумчивым уединением в тиши рабочего кабинета.
Причина подобного поворота крылась не только в полученном им увечье, но и в самом характере этого человека. Потёмкин нередко бросался из одной крайности в другую. В студенческую пору он выделялся успехами. Его даже отметили золотой медалью и в числе двенадцати лучших учеников Московского университета направили в Петербург, дабы представить императрице Елизавете. Но именно с того самого момента, когда он добивался наивысшего отличия, когда его успехи восхищали, он вдруг менялся, совершенно пренебрегал занятиями. Через пару лет «за леность и нехождение в классы» его изгнали из университета.
Прошло полтора года после драки с Орловыми, и Потёмкин вновь появился при дворе. Не по своей воле, - за ним прислала Екатерина. Он был произведён в камергеры, и теперь его стали титуловать «Ваше превосходительство». Но когда разразилась первая русско-турецкая война, придворный вельможа Потёмкин отправился в действующую армию.
Он не раз отличался в сражениях и потому быстро продвигался по службе, был награждён орденами св. Анны и св. Георгия. Его начальник, генерал Румянцев, писал в рапорте императрице о том, что Потёмкин сражается, не щадя себя: «Никем не побуждаемый, следуя одной своей воле, он использовал всякий повод, дабы участвовать в сражении».
Это произвело большое впечатление на Екатерину. Когда Потёмкин, получив отпуск, прибыл в Петербург, императрица дала ему аудиенцию. А прощаясь, разрешила ему присылать письма лично ей. В письме от 4 декабря 1773 года она дала ему понять, что и впредь не хотела бы порывать с ним: «Поскольку со своей стороны я стремлюсь сберечь честолюбивого, мужественного, умного, толкового человека, прошу Вас не подвергать себя опасности. Прочитав это письмо, Вы, быть может, спросите, с какой целью оно было написано. На это хочу Вам ответствовать: дабы в Ваших руках был залог моих мыслей о Вас, поелику всегда остаюсь безмерно благоволящая Вам Екатерина». Как пишет его биограф Г. Соловейчик, Потёмкин увидел в этом «желанное приглашение» и тотчас помчался в Петербург. Совершилась «революция в алько́ве».
Теперь ему можно было не страшиться нового столкновения с Орловыми. Григорий Орлов попал у императрицы в немилость, ибо однажды она обнаружила, что он ей неверен. Тогда и Екатерина завела себе нового любовника. Им оказался гвардейский офицер Александр Васильчиков, молодой, миловидный человек, но ничем выдающимся не отмеченный. Орлов - в ту пору его не было в Петербурге, - узнав о новом фаворите, впал в бешенство. Впрочем, вслед за тем он поразительно быстро успокоился. Видимо, понял, что проявлять неудовольствие по отношению к императрице опасно.
Прошло немного времени; теперь придворные и иностранные дипломаты стали уделять всё внимание лишь Потёмкину, занявшему место невзрачного Васильчикова. Он был важным государственным сановником, старшим флигель-адъютантом, и занимал ряд значительных военных постов. Он жил во дворце императрицы. Его комнаты располагались прямо под её личными покоями и соединялись с ними лестницей. Все его расходы оплачивались из государственной казны. Естественно, он получал ещё и жалованье. Подобную систему ввела не Екатерина, а императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V (брата Петра Первого и его номинального соправителя. Номинального потому, что он был недееспособным. При этом с производством потомства у него всё было в порядке), которая при содействии Тайного совета была провозглашена императрицей в 1730 году, после смерти Петра II. Своим фаворитом и соправителем она сделала шталмейстера, курляндца Эрнста Иоганна Биро́на. Преемницы Анны на русском троне переняли традицию выбора фаворитов.
4 марта 1774 года английский посол в Петербурге Роберт Ганнинг сообщал своему правительству в Лондон: «Новые события, с недавних пор происходящие здесь, заслуживают, по моему мнению, большего внимания, нежели все прежние, что случились с самого начала её правления. Господин Васильчиков, чьи дарования были слишком ограниченны, чтобы каким-то образом влиять на государственные дела или завоевать доверие своей госпожи, теперь сменён новым поклонником, который, как следует ожидать, наделён обоими этими талантами сверх всякой меры. Речь идёт о генерале Потёмкине, прибывшем сюда около месяца назад. Всю войну он пробыл в армии. У него фигура исполина, пусть и неправильно сложенная; выражение лица его совершенно несимпатичное. Что касается его скрытых от взгляда качеств, то, как мне кажется, он является большим знатоком людей и умеет судить обо всём лучше, чем присуще его соотечественникам. В способности затевать интриги и искусно приноравливаться к обстановке он не уступит никому, и хотя о его порочном нраве не перестают говорить, он здесь единственный, кто поддерживает отношения с духовенством».
Английский посол в определённой мере правильно понял, что могло означать выдвижение Потёмкина. Он был прав, отмечая, что выражение лица нового фаворита было «совершенно несимпатичным». Потеря левого глаза обезобразила его и без того грубое лицо. Да и вообще его тело не выделялось красотой. Особенно в то время. Он располнел, его массивную фигуру увенчивала голова, напоминавшая собой грушу и наделённая широким бесформенным носом. Его руки оставались неухоженными. Он имел дурную привычку грызть ногти.
Однако Екатерина находила его прекрасным. Она любила его. В начале апреля 1774 года он переехал на квартиру, расположенную в Зимнем дворце. Потёмкину было 34 года, Екатерине уже 44. Впервые в жизни она нашла в мужчине всё то, что искала, в чём нуждалась. Она нашла в нём не только любовника, но и соратника, и к тому же умного человека. Разумеется, поначалу императрице более всего важна была любовь. Всякий раз, куда бы она ни шла, с нею был Потёмкин; часто она писала ему любовные письма, многие из которых сохранились: «…можно ли ещё кого-то любить с тех пор, как я познакомилась с Тобой? Я полагаю, что нет на свете никого, кто мог бы тягаться с Тобой. Тем паче, что сердце моё от природы любит постоянство…».
Впрочем, подобным словам императрицы Потёмкин не верил. Его часто одолевали приступы меланхолии и хандры, но прежде всего - ревности. Он ревновал любовников, перебывавших у Екатерины до него, по подсчётам Потёмкина, их было пятнадцать. Но тут он преувеличивал. Она, соглашаясь с упрёками, защищала себя в пространном письме, названном ею «Чистосердечная исповедь». В нём она рассказывала Потёмкину о том, как жила до знакомства с ним; в конце «Исповеди» императрица писала: «Смею ли я надеяться после сего признания, что Ты отпустишь мне мои грехи? Тебе нужно признать, что не о пятнадцати идёт речь, а лишь о трети этого числа. Сойтись с первым я была принуждена» (здесь она имела в виду своего мужа), «четвёртого взяла от отчаяния, и я не верю, что их обоих Ты можешь приписать моему легкомыслию. А что до трёх остальных, то сумей войти в моё положение. Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Трудность лишь в том, что моё сердце ни часу не может прожить без любви».
Ни часу… Но с тех пор, как она попала в Россию, ей пришлось прожить без любви долгие годы. Человеку, которого она любила, и который теперь нападал на неё, хотя без неё оставался бы никем, она говорила в своё оправдание, что ей пришлось столько лет прожить без любви, пришлось столько времени провести словно пленнице. И вот с появлением Потёмкина она почувствовала себя такой счастливой, какой ещё никогда не была с тех пор, как приехала в Россию.
Ей не было ещё пятнадцати, когда она, нежная, рано созревшая и безмерно честолюбивая немецкая принцесса, прибыла в Россию, чтобы стать женой Петра III. Принц Пётр приходился внуком Петру Великому. Матерью его была великая княгиня Анна Петровна, старшая дочь Петра Великого, выданная Петром замуж за Карла-Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского. Когда в феврале 1744 года Екатерина приехала в Россию (в ту пору она была принцессой Софьей Фредерикой Августой Анхальт-Цербстской и невестой будущего Петра III), в ней правила его тётка, прекрасная Елизавета, вторая дочь Петра Великого. За три года до этого Елизавета при содействии гвардейцев путём бескровного дворцового переворота завладела троном. С тех пор, как в 1725 году умер её отец, не раз разгоралась борьба за власть. В юности Елизавета была помолвлена с князем Карлом Августом из Гольштейн-Готторпа, однако свадьбу сыграть не удалось: в Петербурге князь умер от оспы. Елизавета осталась незамужней, но всю свою жизнь испытывала родственные чувства к членам Гольштейнского дома. И когда она принялась искать невесту для своего племянника и наследника, великого князя Петра, то вспомнила именно об этом семействе. Сестра её бывшего жениха, Иоанна, вышла замуж за князя Христиана Августа Анхальт-Цербстского. И именно её дочь, принцессу Софью, Елизавета выбрала невестой для великого князя.
Хилый, невежественный, духовно не очень развитый Пётр (коему исполнилось уже шестнадцать лет) был вовсе не парой Софье. Она заметила это уже при первой встрече. Однако для молодой честолюбивой принцессы это замужество оставалось единственной возможностью порвать со скучной, косной жизнью при дворе одного из крохотных немецких княжеств. «Сердце не предвещало мне большого счастья, – писала в своих „Записках“ Екатерина (такое имя она приняла после обряда присоединения к православию), - одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей».
Екатерина с головой окунулась в придворную жизнь, и в то время, как в стране нарастал крепостной гнёт, усиливались нищета и страдания русского народа - она демонстрировала и без того привыкшим к расточительной жизни российским дворянам, что значит настоящее мотовство.
Разумеется, началось это не с первого дня, а позднее, после того, как она выполнила свою задачу или, точнее, то, что считала её задачей императрица Елизавета Петровна: родила наследника престола. В этом вопросе Елизавета проявляла необычайное нетерпение. Всему виной был Иван VI, «мальчик-император», сын низложенной Елизаветой Анны Леопольдовны (племянницы Анны Иоанновны), который был всё ещё жив и мог претендовать на роль наследника престола, если бы что-то случилось с великим князем Петром. А тот был человеком болезненным. Потому Елизавета так спешила. 21 августа 1745 года с редкостной пышностью была отпразднована свадьба Петра и Екатерины. Вечером, когда начался придворный бал, императрица позволила молодым задержаться на нём лишь на час. Потом жениха и невесту повели в отведённые им покои. Мадам Крузе, старшая камеристка Екатерины, которой, так сказать, надлежало удостоверить совершение таинства брака, не смогла сообщить Елизавете ничего утешительного для неё. Судя по «Запискам» Екатерины, ни она, ни Пётр не знали, что же им, собственно говоря, следовало делать.
И так продолжалось ещё долго. Екатерина пишет, что Пётр целыми днями устраивал военные учения со своими слугами или дрессировал собак, а по ночам больше всего любил играть в куклы или солдатики.
Мадам Крузе, писала Екатерина, доставляла великому князю «игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти: днём их прятали в мою кровать и под неё. Великий князь ложился первый после ужина, и как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но ещё чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжёлыми».
Хотя Екатерина была женой наследника престола, долгое время она жила как в клетке. Её камеристки, например мадам Крузе и мадам Чоглокова, да и вообще её служанки напоминали скорее охрану, чем прислугу. Долгое время ей было запрещено писать письма или как-либо иначе извещать о своём самочувствии.
На протяжении всех этих лет, когда за каждым её шагом следили, когда то и дело приходилось переезжать из Петербурга в Москву и наоборот, когда из залов, где проходили блестящие балы, нередко случалось попадать в убогие, плохо отапливаемые комнаты, кишевшие крысами и насекомыми (Екатерина, кстати, часто простужалась), и так на протяжении всех этих лет несвободы в ней всё более развивалось умение притворяться. Поначалу дело касалось пустяков, например, она стала украдкой пользоваться мужским седлом для верховой езды. Екатерина писала, с помощью какой хитрости ей удалось придумать такие седла, на которых она могла сидеть так, как ей нравится: «Они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался, и другое стремя опускалось и поднималось как угодно и, смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у сопровождающих, как я езжу, они отвечали: „На дамском седле”. Они не лгали, я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут…»
Когда, наконец, императрица Елизавета узнала, что Екатерина часто ездит верхом по-мужски, то посчитала, что из-за этого она остаётся бесплодной. Однако, когда императрица поделилась своим мнением с мадам Чоглоковой, то получила, как пишет Екатерина, совершенно обескураживший её ответ: "Что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины; что дети не могут явиться без причины и что, хотя Их Императорские Высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было". "Тогда Её Императорское Величество стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет с неё за то, что она не старается усовестить на этот счёт заинтересованные стороны…".
С тех пор мадам Чоглокова пыталась всеми возможными способами выполнить пожелание Елизаветы. Она отыскала хорошенькую вдову одного художника, которой надлежало просветить великого князя - очевидно, не только теоретически. Так оно и случилось и, по-видимому, с успехом. Во всяком случае, мадам Чоглокова утверждала, что империя во многом обязана ей, уладившей деликатную незадачу. Однако вряд ли скорую беременность Екатерины следует относить на счёт успехов предприимчивой мадам. К тому времени у Екатерины уже появился её первый любовник. Им был Сергей Салтыков, 26 лет, блестящий придворный и покоритель дамских сердец.
В своих «Записках» Екатерина утверждает, что мадам Чоглокова сама предложила ей связаться с Салтыковым или с кем-либо ещё. Она сказала ей: «Бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила». Я дала ей высказать всё, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумлённая, и, не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю своё отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет». Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой, наверно».