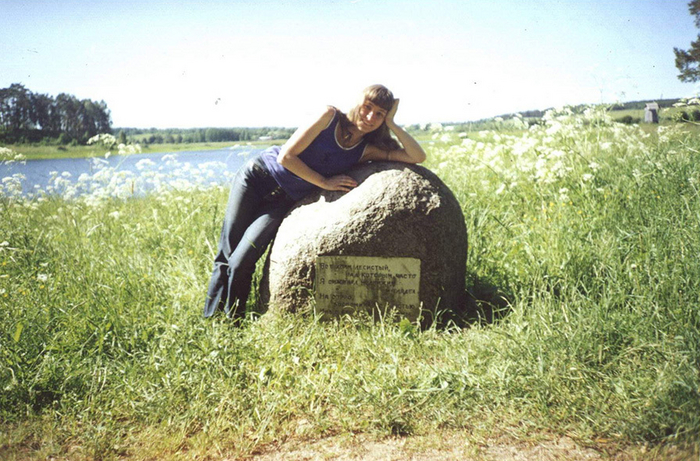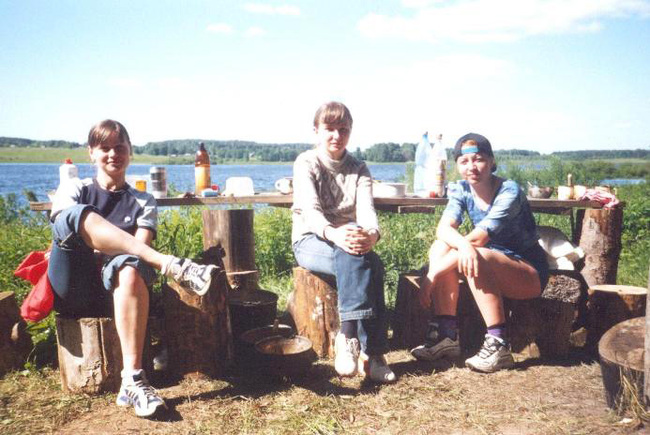История про воров
Эта история не такая древняя, она случилась после переезда в Болгарию несколько лет назад. В августе месяце так вышло, что я осталась дома одна на пару недель. Дом свой, вокруг небольшой участок, обсаженный кипарисовиком и огороженный забором-сеткой. Со мной еще 4 кота: старый сфинкс, свежеподобранный котенок и два молодых котика. Через забор соседи, которые приезжают на лето: женщина и две девочки. Тепло, темнеет поздно, я вечерами торчу во дворе с телескопом.
В тот день как раз возвращались мои, поздно, ночным рейсом, поэтому я ждала и спать не ложилась. Стою себе на кухне, пью холодное молоко, и замечаю, что один из молодых котиков куда-то смотрит в окно, прям напрягся весь, вытянулся, глаза круглые. А мне наружу не видно, свет в кухне включен плюс занавеска. Думаю, это чужой кот пришел, надо пойти его погнать, а то ведь подерутся потом. Дверь у меня прикрыта, но не наперта, я же тут. Выхожу, начинаю обходить дом, поворачиваю за угол – от стены отделяется тень и начинает от меня удирать. Я за ней! Охренела, конечно, знатно, но инстинктивно кинулась догонять. Мужик огибает дом, ломится в кусты и исчезает. Я же забегаю назад домой. Закрываюсь. Дверь на задний двор у нас стеклянная, и окна на всю стену. Вся комната, как на ладони. Пока я совершала свой марш-бросок, двое котиков выскочили следом и теперь принюхивались к кустам, где скрылся мужик, дергали хвостами, нервничали. А вдруг этот мужик был не один? А вдруг пока я бегала, второй спокойно зашел внутрь? Беру на кухне ножик, выбираю небольшой, типа он удобнее будет, если что. Осторожно обхожу дом изнутри. Сфинкс с котенком спокойно дрыхнут, дела индейцев их не волнуют. Больше нет никого. Выключаю везде свет, включаю уличные фонари, у нас их во дворе стоит четыре по углам. Теперь меня снаружи не видно, зато мне видно весь двор. Из окошка сверху осторожно огладываю периметр, в кустах никого не заметно. Жду какое-то время – нет, тишина, убежал.
Мои как раз где-то на подлете. Несколько раз перехожу от окна к окну, присматриваюсь - все спокойно. Не понятно, пьяный какой влез, или может подросток баловался, слишком все быстро произошло. Но мысль, что кто-то наблюдал за мной через окно неизвестно сколько времени прямо очень неприятная.
Чувствуя себя немного дурой, все равно продолжаю поглядывать в окна, сидя в полной темноте. Экран телефона держу так, чтобы он не отсвечивал. Вот и самолет приземлился, отсчитываю время на контроль и багаж, пытаюсь позвонить, телефоны не отвечают.
Время идет, вот уже и час ночи. Когда уже почти убеждаю себя, что можно больше не играть в эту засаду, замечаю какое-то движение во дворе соседей. У них горит только слабый свет на верхнем этаже, видимо все уже спят. Во дворе полностью темно, ничего не видно, только одну стену. Там у них кухня и кладовка. И вот возле окошка в кладовку появляются два мужских силуэта. В темноте можно понять, что один лысый/бритый, и оба вполне крепкого телосложения. Все, больше ничего не разглядеть. Камера телефона тоже бесполезна - далеко и темно, а телефон простенький и пожилой. И у меня дилемма: я выйду – а они ведь уже знают, что я дома одна, 45 кг весом, вдруг решат напасть? ХЗ же что у придурков в голове. И там, в доме только женщина и девочки-подростки. И мои никак трубку не берут, от чего я нервничаю даже больше, чем из-за грабителей (им машиной из аэропорта ехать не близко, за город). Открыть окно и покричать? И спустится моя соседка прямо к двум уродам во дворе. Со стороны, конечно, рассуждать уже легче, но в тот момент я действительно не знала, как лучше поступить. Не получалось заставить себя кричать, боялась сделать хуже. И не делать ничего тоже было нельзя.
В этот момент, видимо, боги были ко мне благосклонны, потому что послышался шум двигателя. Потом свет от фар осветил дорогу. Машина. Мои. Двое исчезли во тьме, так и не успев вскрыть окно. Повезло. Выхожу встречать, в руке нож, я с ним так и ходила, просто так для личного спокойствия. Рассказала про воров (телефоны они просто забыли включить), покричали соседям, рассказали все им. Что выяснилось уже утром: заднюю дверь соседи не запирали вообще, из комнаты пропала сумка и кошелек. Значит, заходили и вынесли. Зачем потом пытались влезть в окно кладовки, вот вообще не могу понять, может что-то там в темноте им приглянулось, а через весь дом пройти постеснялись. Кроме того оказалось, что они успели выкрутить все(!) лампочки из их фонарей, чтобы свет уже нельзя было включить. Я этого видеть не могла. В том месте, где мужик сбежал от меня в кусты, обнаружилась дыра – сетку открутили и отогнули. Ну и вишенкой на торте – на пустом участке рядом появилась деревянная лестница, которой раньше там не было. Такая вот история. Никакой больше иллюзии безопасности.