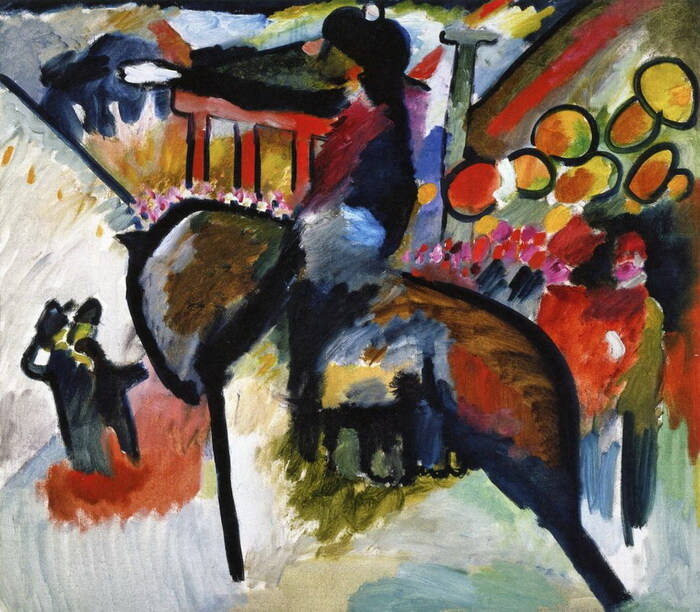О цикличности истории и вопросах от сего происходящих
Для ЛЛ: "Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек", а схожие времена рождают схожие вопросы.
Василий Кандинский. Импрессия IV (Жандарм). 1911г. Холст, масло. Собственно, чиновники Третьего отделения Е.И.В. канцелярии были далеки от подобной инфернальной фигуры, они не тем брали.
Третье отделение собственной Е.И.В. канцелярии создавалось как орган, в первую очередь, престолоохранительный (хотя и не только) с широкими политическими полномочиями. В сферу деятельности Третьего отделения входили вопросы очерченные ещё Соборным уложением 1649 года в первых статьях (ст.ст. I - частично, II – III полностью, далее - частично), а именно:
1) Преступления против личности государя (прямые покушения);
2) Преступления против «государевой власти» (от «поносных слов», через «попрание Веры Православной» и до покушений на престол);
3) Преступления против «государева интереса» и казны.
Важно понимать, что по «первым трём пунктам» всегда признавалось значимым, говоря словами уже «Уложения о наказаниях»
«… как само совершение сего тяжкого преступления, так и покушение на оное».
Несмотря на все изменения в законодательстве и его дальнейшую регламентацию, содержание политических преступлений, в общем, этим и исчерпывается, только к 1874 году ещё несколько конкретизировали то, что мы сейчас называем «гос.изменой» и «сепаратизмом». Забавно, но и знаменитая ст. 58 УК РСФСР, и соответствующие статьи республиканских кодексов были выдержаны в том же ключе. Конечно, добавился неизвестный ранее «саботаж», но в царское время как о политическом преступлении о таком и помыслить не могли, хотя оно наблюдается сплошь и рядом. В наше же время идёт настоящий ренессанс имперского подхода. Всяческие «дискредитации» и «оскорбления чувств» - это прямой аналог преступлений по былому «второму пункту», а «саботаж», как раз, убрали от греха.
Чуть напомню, что самой употребляемой статьёй из «политических» (буквально — по количеству судебных решений) до 1905 года была ст. 103 «Уложения о наказаниях» (вопросу посвящена вся глава третья, ст.ст. 103-107), которая рассматривала оскорбление членов правящей династии как серьезное преступное деяние. До восьми лет каторги мог получить человек, виновный
«...в оскорблении Царствующего Императора, Императрицы или Наследника престола, или в угрозе их Особе, или в надругательстве над их изображением, учиненным непосредственно или хотя и заочно, но с целью возбудить неуважение к Их Особе, или в распространении или публичном выставлении с той же целью сочинения или изображения, для Их достоинства оскорбительных».
Другие статьи «Уложения» предусматривали подобные наказания и за оскорбления иных здравствующих членов императорской фамилии, а также
«Деда, Родителя, или Предшественника Царствующего Императора».
Вопросы дискредитации религий («признанных государством церквей»(!)), мундира, «государственных установлений», «действующих чинов» рассматривают глава вторая, частично главы шестая и седьмая «Уложения», в особо тяжёлых случаях — до пяти лет каторги. Количество дел по оскорблениям устойчиво растёт до Великой войны, где на подобное уже просто перестали обращать внимание. Забавно, но национальная принадлежность представителей «господствующей нации» в делах по оскорблению не всегда указывалась. Лишь в редких случаях отмечалось – «русский», «малоросс», «белорус». Напротив, когда речь шла о других этнических группах, национальность указывалась как правило. «Нерусскость» полагали важным смягчающим вину обстоятельством, наравне с «пьян был».
Т.е. к вопросу всего, что связано с государственной властью, управлением и его авторитетом подходили весьма серьёзно, хотя, в том что касается «второго пункта», в царствие Николая I уже вполне разделяли уровень «демонстративно-политический» и «бытовой». Третье отделение вмешивалось лишь в «политику», всю «бытовуху» оставляя МВД, но брало такие вопросы на карандаш и активно собирало информацию касательно умонастроений по поводу всех ветвей государственной власти. Наблюдения агентов, слухи, толки, выборочная перлюстрация давали обширный материал «на подумать», зафиксированный в сводках и донесениях по Третьему отделению.
Среди архивных документов Третьего отделения о городских слухах и толках циркулирующих в губернских городах и обеих столицах, содержится немало сведений о проблемах городского хозяйства, о недовольстве жителей состоянием дел в городах, о неэффективности городских властей. В сферу интересов высшей полиции подобные сведения попадали, видимо, потому, что каждодневные проблемы городской среды беспокоили подданных никак не меньше, чем глобальные вопросы правительственной политики, тем более что общественное недовольство вполне могло вырастать из банальной бытовой неустроенности жизни. И вот тут можно заметить удивительную гармонию между тем, что было тогда и тем, что есть сейчас.
Следует отметить, что общий тон заметок о городских новостях и происшествиях в «Сводках о слухах и толках» в конце 1850-х — начале 1860-х гг. скорее скептически-ироничный. Городские власти особым влиянием и уважением у сограждан не пользовались, а потому, сообщив 1 июня 1857 г. об избрании в Санкт-Петербурге нового градского головы, полицейский информатор прибавит, что прежний, говорят, купил себе виллу в Южной Италии и хочет туда перебраться:
«Кажется, подобным людям хлеб-соль в России под конец делается уже не вкусна в самой нашей матушке России!».
Сильная гроза в один из летних дней 1858 г. дала повод для веселых комментариев относительно происшествия: в результате удара молнии по Думской башне оглох часовой. Шутники говорили: жаль, что гроза была не во время заседания, тогда
«этот удар наверное разбудил бы в некоторых тамошних членах секретарях заглохшую совесть и справедливость».
Постоянным объектом общественного порицания в городах были рядовые полицейские чины. Притчей во языцех были «будочники», в обязанность которых входило обеспечение безопасности в городе. Горожане считали их «бесполезными и даже вредными».
«Публика вообще, когда в разговорах касается до будочников, отзывается об них не иначе как о мошенниках и первейших грабителях, а не как о блюстителях порядка и безопасности жителей... Известно, что они [не] только неоднократно были запутаны в сообществе с ворами, но даже обличены в убийствах».
Эту позицию достаточно четко выразил один петербуржец, сказав о городовых:
«У этих людей только в голове как бы придраться к какому-нибудь простолюдину и стянуть с него гривенничек или два».
Достаточно часто в сообщениях о тайных сборищах «игроков азартных игр», нарушениях режима работы питейных заведений, функционировании публичных домов и «весёлых квартир» отмечалось, что «полиции все это хорошо известно», а иногда и конкретно указывалось, что
«...квартальный надзиратель Захистин получает по четвертному с вечера...».
Случаи полицейских злоупотреблений иногда были просто курьёзны. В июле 1860 г. агенты Третьего отделения зафиксировали рассказ о том, что в Каретной части всеми делами ведал не квартальный надзиратель Гурский, а его жена,
«...которая вместо его разбирает разные жалобы, чинит по ним суд и расправу, берет взятки».
Эту историю обыватели рассказывали «со смехом».
Подобные сообщения обычно сопровождались поручением шефа жандармов проинформировать петербургское полицейское начальство («частным образом», то есть неофициально, без указания источника полученных сведений) для принятия мер, но результативность подобных донесений редко можно проследить.
Беспокоили обывателей и бездомные животные, которые доставляли им большие неудобства.
Любопытная заметка находится в сводке о слухах и толках за 15 мая 1857 г:
«Обыватели не постигают причин, почему с прошедшего лета отменена здесь благоразумная и столь необходимая для безопасности жителей мера, в летнюю пору ловить бездомных собак, в таком множестве скитающихся по улицам и площадям и устрашающих пешеходов не только ночью, но среди белого дня, — особенно детей порядочных родителей, во множестве гуляющих с их няньками по тротуарам и набережным? Неужели — говорят — мало было случаев от укушений бешеных собак и причиненных ими испуг, когда во время их скопищ оне целыми стаями бегают по улицам и без всяких причин бросаются на людей и лошадей? Настоящие причины такой непонятной и непростительной со стороны здешней полиции беспечности и отступления от прежнего порядка не только не известны обывателям Петербурга, но и к величайшему стыду, даже и самим полицейским офицерам!»
Последующий материал показывает, как основательно чиновник Третьего отделения подошел к составлению этого сообщения:
«На делаемые им [полицейским офицерам] обывателями вопросы об этом все их ответы совершенно различны между собою, что ясно доказывает, что никто об этом ныне здесь не заботится и со стороны городского начальства для безопасности людей в этом отношении не принимаются решительно никакие меры!»
Далее приводились ответы полицейских, полученные из частных бесед с ними. Объяснения предлагались самые разные, начиная с заботы о чести мундира:
«Со времени Игнатьева [П.Н. Игнатьев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, граф, санкт-петербургский военный генерал-губернатор (1854–1861 гг.)] , он отменил этот порядок, находя, что неприлично для солдат бить собак, ибо хотя этим занимаются фонарщики, но они все-таки считаются солдатами».
Обнаруживались и социальные мотивы подобной бесхозности:
«Это сделано по представлению брант-майора Эртеля [Л.Н. Эртель, генерал-майор, санкт-петербургский брант-майор (1847–1858 гг.)] , который просил Игнатьева дозволить ему вместо употребления фонарщиков бить собак, отпускать их во время трех летних месяцев, где они не бывают заняты фонарным по городу освещением, ходить на вольную казенную работу в пользу артельных их денег, для улучшения пищи сих бедных людей».
Другая, «финансовая», версия заключалась в том, что
«употребленные на этот предмет с незапамятных времен сети до такой степени изгнили, что совершенно сделались негодными к употреблению, а для изготовления новых совершенно нет сумм в полиции».
Рациональный выход видели в предполагаемом намерении:
«сделать какие-то ручные сети, чтобы ловить живых собак, а потом уже бить их за городом, чтобы удалить это противное зрелище от жителей, и отделять собак с ошейниками от собак, скитающихся по воле, или давать им околевать с голоду в каком-нибудь отдаленном месте за городом».
Этот вариант решения проблемы подтверждался рассуждениями (тут обращает на себя непривычное использование термина «гражданин». Оно сброд, конечно, но в данном конкретном случае - «неслужилый». При этом, старший дворник - это уже младший полицейский чин):
«Вместо фонарщиков Эртель предложил употреблять на это граждан — дворников, арестантов или разный другой сброд народа, но нет еще разрешения.
Вполне вероятным было предположение:
«Может, это сделано из экономии, ибо по давнишнему положению, полагается по 10 коп. с каждого собачьего хвоста в пользу фурманщиков».
Опрошенные офицеры прибавляли, что это дело их начальства, а раз оно не делает никаких распоряжений, то и им незачем «соваться не в свое дело».
Резюмируя результаты опроса и недовольства петербуржцев, информатор убеждал свое начальство:
«Но от этих пустых разговоров жителям Петербурга нисколько не легче, — следует действовать, а не рассуждать. Поэтому-то и совершенно справедливо их негодование против непростительного упущения, и желание, чтобы в скорейшем времени были приняты самые строгие меры для восстановления единожды и навсегда в Петербурге прежнего в этом отношении полицейский порядок, без которого в жаркое летнее время никто не может выходить со двора без опасения быть укушеным бешеною собакою».
В данном конкретном случае последствия тайной записки оказались заметны для горожан. 10 октября 1857 г. в сводке Третьего отделения появилась новая информация о том, что петербургская полиция наконец-то занялась уничтожением бродячих собак:
«Это производится здесь совершенно на парижский манер, то есть двое везут телегу с ящиком, а несколько человек, каждый вооруженный железным обручем с сеткой, как бы мимоходом набрасывает ее на избранную жертву».
...Дискредитации, релоканты, полицейский бардак и злые собачки... И это всё это 170 с гаком лет тому... Ну как тут не задуматься о цикличности истории?..
Нормы цитируются по : «Новое уголовное уложение, высочайше утверждённое 22 марта 1903 года»;
Статистику по применению 103-107 ст.ст. можно посмотреть в приложениях к: Колотильщикова Е.А. Дела об оскорблении его императорского величества;
Тарновский Е.Н. Статистические сведения об осужденных за государственные преступления в 1905 –1912 гг. // Журнал Министерства юстиции. 1915. № 10. С. 43, 47, 63 – 64.
О перлюстрации и её роли подробнее можно почитать тут;
Анализ материалов сводок по Третьему отделению дал: О.Ю. Абакумов. Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.;
Кн. В.А. Долгоруков. Отчёты Третьего отделения Е.И.В. собственной канцелярии за 1856 - 1866 гг.
Там смотрим раздел «Нравственное состояние общества» за 1857г.