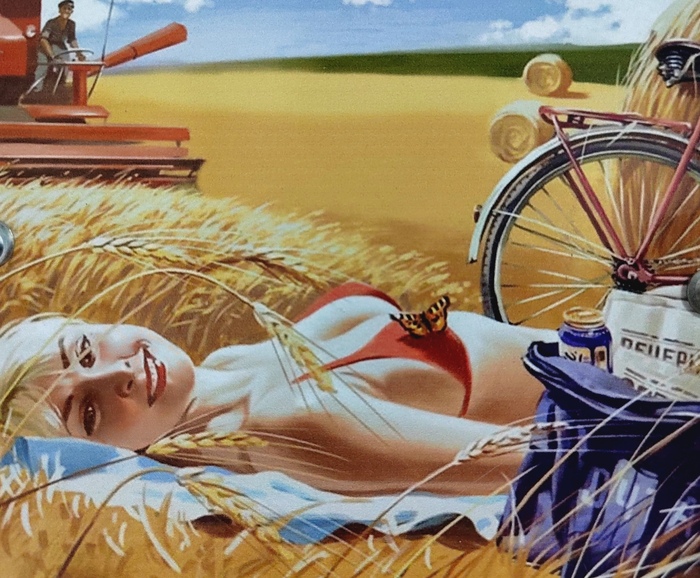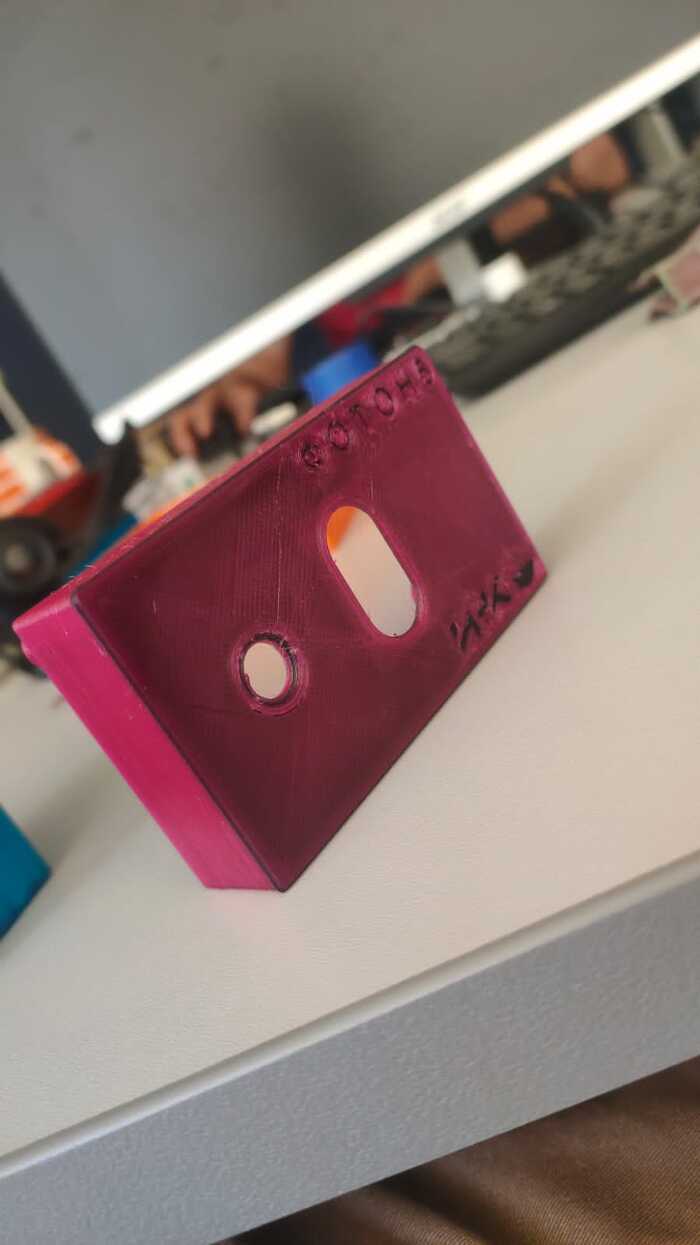В марте 2022 года правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа 2022 года. Между тем, пшеница на сегодняшний день является единственной ключевой сельхозкультурой, производство которой обеспечено разработками отечественных селекционеров.
Дело в том, что за последние десять лет в российском агропромышленном комплексе значительно выросла доля семян, импортируемых из-за рубежа. По данным исследователей иностранная селекция по кукурузе, например, увеличилась с 37% до 58%, по подсолнечнику с 53% до 73%. Такие цифры приводились авторами проекта «Селекция 2.0», подготовленного экспертами из Института права и развития ВШЭ-Сколково, Международного центра конкурентного права и политики ВШЭ-Сколково и Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ совместно с Федеральной антимонопольной службой.
В деле импортозамещения и, если уж на то пошло, селекционной гонке Россия находится не на выигрышных позициях по многим причинам. Одна из них — это слабая связь селекционной науки с рыночной практикой. Активность и цитируемость российских научных организаций не достигает и 1% от средних показателей США и Китая. В профильных организациях налицо нехватка кадров, а в вузах не хватает образовательных программ.
Еще одна немаловажная причина — неспособность разводчиков семян обеспечивать себе прибыль. Государственные субсидии плохо адаптированы к рынку, а роялти, которые селекционеры получают за свои достижения несравненно ниже, чем в других странах. Примерно 0,016% против средних 2% по мировому рынку (не говоря уже о том, что на практике роялти могут достигать 10%-12% от продажи семян). Ситуацию, по мнению исследователей из НИУ ВШЭ, необходимо менять. При этом не стоит напрямую копировать западные модели, чтобы иностранные компании не стали главными выгодоприобретателями. Нужно изобретать новые подходы.
Узкое горлышко
В России существует богатое наследие советской селекции, которое нельзя недооценивать. Академик Вавилов предсказал появление банков генов и определил направление их развития на сто лет вперед. Семена, выведенные еще советскими НИИ, используются для засева более 80% озимой пшеницы, и более 90% площадей овса. По рису и гречихе этот показатель достигает 100%.
Однако советское наследие означает и советскую модель института селекции, при которой богатые коллекции остаются закрытыми для селекционного бизнеса, отсутствует эффективная связка между ресурсами и рынком. Это приводит к тому, что накопленным национальным достоянием торгуют «из-под прилавка», в серой зоне. Сегодня не существует эффективных правовых норм и инструментов для интеграции селекционных достижений в глобальные цепочки создания стоимости. Двойственность структуры прав на коллекции, по мнению экспертов из НИУ ВШЭ, — физические активы и объекты интеллектуального права — блокирует ряд операций, которые могли бы запустить коллекции в оборот.
Эксперты видят одним из выходов перераспределение часть средств нацпроекта «Наука» для поддержки отечественной селекции и генетики. Важным шагом на пути к оздоровлению российской селекции должно стать создание цифровой базы данных государственных генетических коллекций с информацией о генетических и фенотипических признаках образцов, а также разработка и внедрение прозрачного механизма равного доступа частных и государственных организаций к этим коллекциям.
Рыночная селекция
Против квот на импортные семена — даже в течение ограниченного срока, например, пяти лет, чтобы отечественные аграрии привыкли использовать российские наработки — выступает и Алексей Иванов, один из авторов отчета «Селекция 2.0», директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и научный руководителя Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ. По его мнению аграрии сами знают, какие семена им нужны чтобы добиться эффективных результатов. Поэтому они сами должны платить за полученный селекционный материал, а полученные средства пускать на развитие селекции.
Семеноводству необходимо примерять на себя реалии рыночной экономики. Эффективный механизм роялти, как считает Иванов, может быть успешно реализован и в селекционной сфере, чтобы «сельхозпроизводитель платил за результат, и селекционер зависел бы от выбора, который делает покупатель, а не от государственных субсидий».
В какой-то момент, по мнению эксперта, государство уберет подпорки в виде субсидирования, и тогда все заделы и достижения российской селекции могут обнулиться. Для того, чтобы этого избежать, «важно развивать рыночные механизмы».